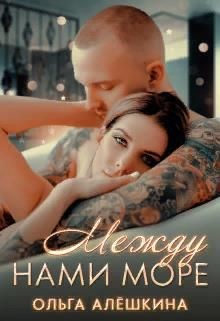Нужно было пытаться увидеться с ней, вымолить прощение, но всё что я мог — следить издалека. Мне даже перед армянином было стыдно! Он-то, невзлюбивший меня с первого дня, всегда подозревал, что со мной что-то не так. Да всё не так! Мой отец сволочь, например. Моя мать брыкается, никак не может принять мой выбор.
— Поговори с ней, — как-то вечером шепнула Соня. Я сидел в полумраке гостиной, делал вид, что пью чай, а сам даже ни разу не притронулся к чашке. Поднял на неё глаза, соображая: откуда она знает? Но Соня добавила: — Объясни ей раз и навсегда.
— А-а… ты про маму, — озарило меня. — Нет, Соня, поздно уже.
— Завтра поговори, как только проснётся.
Сонечка, милая, если бы всё решалось так просто, одним лишь разговором с матерью… Однако, разговор всё-таки состоялся.
В воскресенье с рассветом вышел в море, Василич, наконец, довел моё суденышко до ума. Я походил вдоль берега, вяло, без огонька, заплыв вышел смазанным, удивительно коротким. По обыкновению, искупался, вернулся и сразу в душ. Когда я покинул свою спальню, с намерением прокатиться, возможно, даже проехаться мимо дома Аси, а там, глядишь, набраться наглости и постучать, в гостиную входила Милка. Я бросил на неё гневный взгляд, а бывшая пустилась в оборону.
— Что? — округлила она глаза. — Меня Марина Николаевна пригласила!
— Мам, — позвал я. Она прекрасно знает мои привычки, соответственно подгадали, когда ей лучше прийти. Мама материализовалась из гостиной, вскинула ладоши и расцвела:
— Миланочка, детка, проходи, молодец, что заглянула. Гордей, идем с нами, составишь нам компанию.
Повернулась ко мне и подозвала рукой, как ни в чем не бывало. Распорядилась. Игнорируя моё недовольство, мои желания, моё перекошенное гневом лицо. Ну, уж нет, Марина Николаевна! Я взял мать за запястье, вывел на улицу. Надо было выставить взашей Милку, но даже прикасаться не хотел.
— Мама, — наклонился я к её лицу. И медленно, по словам, произнес: — С этой женщиной у меня ничего общего. Скажи мне прямо сейчас, что тебе интересно это общение, ты видишь в ней свою подругу и я от вас отстану.
— Но, Гордей, — капризно протянула она, а я взревел:
— Так, понятно!
Решение спонтанное, импульсивное, я повел мать за собой и усадил на пассажирское кресло машины, она только глазами хлопала. Сам уселся за руль, запустил двигатель и резко тронулся. Если мы не можем поговорить в собственном доме, значит мы сделаем это в машине. Мне хотелось орать, рвать и метать, сдерживался из последних сил. Ехал без особой цели, присматривая где приткнуть машину, пока не пришла свежая мысль: а почему, собственно, нужно орать? Ведь это тоже — насилие. Почему бы, спокойно не поговорить?
— Гордей, куда ты меня везешь? — отмерла мама, покосилась на своё пёстрое кимоно и добавила: — Имей в виду, я не одета для выхода в люди.
Я не ответил. Сосредоточенно рулил, подбирая нужные слова, просёлочной дорогой спускаясь к морю. «Казаковский» спуск величали в народе эту просёлку. Его уважали, завидовали, остерегались, побаивались. Последние два пункта отец заслуживал особенно. Чем ближе мы подъезжали к морю, тем яснее становилось где мне нужно остановиться. Подъехали, заглушил машину и вывел её, опять же, за руку. На удивление мать не сопротивлялась, послушно брела за мной. Домашние туфли шлепали ей по пяткам, а она даже не пикнула.
Дошли, я сел у склона, осматривая безлюдный, дикий пляж, и ударился в воспоминания.
— Вот здесь мы познакомились, на этом самом месте, — похлопал я ладонью по земле рядом. — Я несколько замечал её, до того, как подойти, но почему-то не решался. Хотя, робким десятком никогда не отличался. Она была такой трогательной, такой грустной.
Мать походила вокруг меня, придерживая от ветра прическу, а потом села рядом в траву, вытянув по склону ноги. Сбросила обувь, вдохнула морской бриз и протянула:
— Хорошо здесь. Романтично, должно быть… И встреча эта, и влюбленность юношеская.
— Я люблю эту женщину, она моя. Он макушки до пяток, со всеми её достоинствами и недостатками, мой человечек, понимаешь?
— Ох, и настырный ты, Гордей, — восклицает, — прямо как отец!
— Отец, отец, да, что отец?! — соскочил я на ноги. — Мы обо мне сейчас говорим, не о нём.
— Так и я о тебе говорю, сравниваю просто.
— Я не хочу, чтобы ты нас сравнивала! Я о Асе тебе рассказываю.
— А я может про твою Асю не хочу слушать, — нараспев протянула она. Вредничала. Я не выдержал и едко заметил:
— А могла бы. Ты даже не представляешь, как мы перед ней виноваты.
— Ой, ли! Тоже мне цаца, подумаешь. Ну, съездила я к ней и что, рассыпалась она что ли? Материнское сердце не обманешь…
— Господи, слова-то какие пафосные! — фыркнул я и повернулся к ней: — И что оно тебе подсказывает, твое материнское сердце?
— То и подсказывает! Девчонка эта — тихий омут. Беспризорницей у непутевой матери росла, а потом у тётки в приживалах, ни воспитания, ни ценностей.
— Ценности, говоришь? Это про какие ценности ты толкуешь: семейные, нравственные, какие? Нравственные, должно быть, о-о… нашей семье их не занимать…
— А тихоня твоя святоша, выходит! Если бы она любила тебя, разве уехала бы, бросив? — подняла она на меня глаза и заявила: — Папа ей заплатил тогда, чтобы она уехала. Она выбрала деньги, сынок. Не тебя, понимаешь, деньги.
— Заплатил?! Заплатил?!! — взорвался я. — Это он тебе такое сказал? Ну, конечно, и ты безоговорочно поверила.
— Не пойму, чего ты так кипятишься? Да, неприятно слышать, что тебя предали, но это так, Гордей, ты должен принять эту правду!
— Да он нанял отморозков, чтобы они поиздевались над ней, «попортили»! Как тебе такая правда? — крикнул я и долбанул кулаками по лысой башке. Поздно, слишком поздно. Зря я так, несдержанно, бесповоротно. Опустился рядом, потянув пригоршню травы, дернул клок и покаянно вздохнул: — Извини. Надеюсь, значение последнего слова объяснять не нужно.
Она молчала долгую минуту, и молчание это тяготило, а потом завертела головой:
— Неправда, это неправда…
— Правда, мама, горькая, но самая что ни на есть, правда.
На следующий день, с работы, мать ждала меня буквально у порога. Без обычной боевой раскраски на лице и, по-моему, даже не причесана. Вчера мы долго лежали на берегу: молчали, говорили и снова молчали, уж не заболела ли?
— Ты съездил к этой девочке? — с беспокойством спросила она, как будто от этого зависела чья та жизнь. А может и зависела, моя, например.
— Ася, мама. Её зовут Ася. Нет, не съездил.
— Но почему? — искренне удивилась она.
— И что я ей скажу? — прохожу в холл, огибая мать. — Приношу извинения?
— А почему бы и нет? Говори, что угодно, но не молчи! — бежит она за мной. — Ты не имеешь права молчать, Гордей. И находиться в стороне не имеешь права!
Вхожу в комнату, падаю в кресло, тяжело вздохнув. Нервозность, недосып аукаются в полной мере. Мама просачивается следом, садится на кровать. За ней, приоткрыв дверь, заглядывает Соня, справиться о ужине, но мать отшивает её и вопросительно на меня смотрит.
— Подозреваю, она меня даже знать не хочет, не то что видеть.
— Тебе не подозревать, тебе это выяснить нужно.
С шумом вздыхаю вновь, откидываю голову на спинку кресла и прикрываю глаза, надеясь мать все поймет и оставит меня одного.
Глава 22
Ася
Принимать гостью пришлось в доме, беседка занята отдыхающими, я начала жалеть, что впустила. Смотрела на неё и пыталась понять, что я чувствую: злость, ненависть, презрение? Нет, пожалуй. Равнодушие. Тупое, неосязаемое и безликое. Мне безразлично зачем пришла эта женщина и как она ещё готова меня оскорбить или унизить.