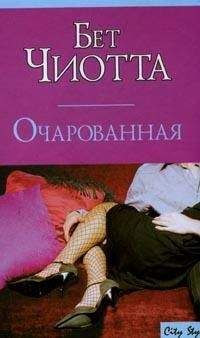Первою слетела с головы нитка черного жемчуга, подаренная ей великой Екатериной сразу после свадьбы, — жемчуг, поддерживающий накладной шиньон, рассыпался, жемчужины полетели вниз, словно бы чёрные грозовые капли; попадали в траву; потом никто и никогда не найдёт их в русской земле, а если и найдёт через пару сотен лет, то лишь повертит в руке смрадный земляной окатыш с твёрдым ядром внутри да и бросит прочь, прочь, прочь… Трепыхаясь, как подбитый голубь, ничем не поддерживаемый, потому что заколки выскочили прочь тоже, трепыхаясь, полетел вниз и шиньон; освобождённые волосы хлопнули на ветру, словно бы полковой штандарт, и заплескались позади летящей. Тут же, сверкая, попадали вниз нашитые на платье аграманты — не все, потому что некоторые остались, намертво соединённые с шелестящим и, как и волосы, хлопающим на ветру шёлком, зато само платье, словно бы змеиная кожа, постепенно сползло с нее, оставив Лиз совершенно голою, как будто бы ни лифа, ни корсета, ни нижней юбки, как будто бы ничего, кроме самого платья, не было на ней сейчас. Платье несколько времени летело за нею, как бы само по себе живое существо, горизонтально вытянутое в воздушном потоке — будто бы Лиз всё ещё находилась внутри него. Но вот платье остановилось в полёте, скомкалось и комком ухнуло вниз; она успела заметить, куда оно упало — возле беседки, как раз возле беседки, между розовым кустом и резною стенкою, посылающей сейчас на землю кружевную тень. И, наконец, стремительно, словно бы самоубийцы с крыши, стремительно бросились вниз башмаки. Тут она отметила, что и чулок на ней тоже уже нет. Удивительную свежесть почувствовали ноги, пальцы ног — ветер целовал их. Лиз ещё раз уже осмысленно повела рукой, заставив тело крутиться; груди заплескались, круглые тугие ягодицы, которыми так восхищался Платон Александрович Зубов, завертелись под взглядом — она чувствовала этот восхищенный взгляд, ягодицы завертелись — тоже, словно бы золотые купола, давая искрящийся отблеск.
Внизу по дороге шагом тянулся конный гвардейский полк; она присмотрелась — то были, конечно, кирасиры; их каски сверкали тоже, сверкали золотые, в форме тупых углов, нашивки на рукавах литаврщиков, сверкали лоснящиеся крупы лошадей — крутые, как её собственная попка. Солнце сверкало, играло решительно на всем, куда только достигал взор. Она не видела только сверкания глаз, потому что всадники, держа повод, не поднимали глаз к небу; невозможно было представить, что это граф Платон, как тогда, при их совместным с Жюли купании, смотрит сейчас на нее, Платон Александрович мог только оставаться на земле, он не мог сейчас видеть её в счастливом солнечном сиянии, но взгляд чувствовала она и возбуждалась, сама, как солнце, загоралась под взглядом — летел навстречу взгляд, и Лиз протянула к нему, к этому светлому взгляду, руки, тем самым убыстряя полёт. Она согнула и развела ноги, и этим убыстряя полёт тоже. Чудо случилось. С огромною скоростью она влетела в непреодолимую преграду, в само солнце влетела, в солнце, источающее и взгляд, и свет, и страшный жар, входящий, влетающий в самое её естество, в солнце само, значит, влетела, но не разбилась, хотя испытала мгновенную боль, когда встреченная преграда заполнила её всю целиком. Теперь солнце и жар от его сияния были в ней самой. Она закричала там, наверху, продолжая лететь, закричала от счастья, продолжая полёт. Кирасиры внизу, на дороге, не слышали, только за дверями слышал дежурный кирасирский наряд, камеристка слышала и старший официант, пришедший доложить о том, что ужин подан, и лакеи. А кирасир летел меж её летящих ног. Тут в распахнувшееся окно ударил ветер, штора затрепетала, как трепетал в крике живот Лиз, мокрый от пота. Крик летел вслед за Лиз, пока Охотников не зажал ей рот ладонью; она укусила его ладонь, кровь быстро закапала, кровяной рукою Охотников шире развел ей ляжки. Остались на бархатной коже пятна, словно бы императрица Елизавета Алексеевна сейчас во второй раз в жизни потеряла девственность. Полк внизу продолжал движение, лошади шли галопом, скакуны всё убыстряли бег, как и она, Лиз, убыстряла свой полёт, и ей захотелось ласкать горячих скакунов, горячих, как солнце; она заглатывала и заглатывала огромное солнце, выплескивающее тяжелые струи огня.
Вывоз товара представлялось возможным произвести по реке — и Дон, и Воронеж даже в межени отлично судоходны. Зимой на санях. За милую душу! А подвоз сырья произвести сухим путем — от поля до фабрики на телегах. Саму же канатную дорогу[70] придётся вести тоже по воде: только баржа способна поднять готовые железные части — чекмарь, свивальную тележку и вытяжную машину, которые просто раздавят любую повозку. И прямо с баржи устанавливать канатную дорогу при водяной мельнице — вода станет крутить колесо и давать силу основному приводящему валу. Так-то поспешествовать производству и государственной пользе! А иначе нельзя, никак невозможно. Разумеется, потомственному дворянину невместно делаться купцом, так он и не собирался делаться купцом, всем заправлял бы приказчик, а он бы только самолично являлся смотреть за течением событий.
А товар — продавать. И будут у них не только ассигнации, но и настоящая чеканная монета. Потому что чеканить у себя монету уж слишком непростое дело. Нужен прежде всего пресс — не такой, типографский, что стоит у него, а существенно более могучий. И скупка золотых вещей для переливания в монету не могла бы остаться незамеченною. И также подвоз меди — какой же смысл иначе чеканить золотую монету? Внутри она должна быть, разумеется, медной — подвоз думал, что следует устроить у себя просто изготовление грубого сукна, построить ткацкую фабрику и снабжать армию, что не менее необходимо России, но изготовление сукна — так он чувствовал уже помимо себя — слишком простое и понятное дело, лишённое какой бы то ни было поэзии, это ему было неинтересно. Кроме того, душевная простота идеи ткачества требовала куда больших сложностей воплощения и не могла черпать сырья у него же на поле, под ногами. Иное дело канаты — корабельные снасти, ветер в парусах… И деньги растут здесь же — вот они, пенька! Главное — произвести побольше качественных денег, и тогда можно всё купить для России, всё купить.
Он побывал в Нюрнберге, проездил, почитай, месяца два, съездил и подробнейше изучил машину. Сделал записи в тетрадь. Пожелал было выписать из Нюрнберга и механика, чтобы тот у него на месте все устройство бы собрал, отладил и ходу ему дал, но запросили слишком дорого; да за осьмую часть таких денег каждый каретный мастер — хоть свой, а хоть из Петербурга, за осьмую часть таких денег каждый каретный мастер соберет ему канатную дорогу ничуть не хуже любого немца! Не говоря уж о собственных мужиках, которых можно приспособить к делу тоже.