Разбуженные воспоминания терзали ее душу. Хотелось то обвинять себя, то оправдываться. Но она помнила, как дорого ей обошлась однажды такая откровенность. И старая ревность Режи предостерегала от опасности. Ее исповедь перед ним — тогда еще дружеская — заставила Монику так безумно страдать, когда он стал ее любовником… Но все же она должна была какой угодно ценой открыть свое прошлое Жоржу — человеку, который спас ей жизнь и тем самым получил право судить ее. Она мистически жаждала унижения как наказания за гордость. Бросившая однажды вызов мужской лжи и грубости, гордая холостячка снова превращалась в женщину, в слабую женщину, побежденную величием любви.
— О, если бы вы знали, — повторила она.
— Да, я знаю. Я знаю, что вы страдали, как все те, кто жаждет абсолюта. Я знаю, вы никогда никому не сделали зла, и только вам его делали другие. Все остальное — что мне до него? Ваше прошлое принадлежит вам одной. Для меня в жизни, а следовательно, в высшем ее проявлении — в любви — ценны лишь равенство и свобода. На человека, которого любишь, имеешь только те права, которые он сам дает, и только с той минуты, когда двое всецело отдадутся друг другу, могут возникнуть счеты между любящими.
Она его слушала, как грешница Христа.
— Я знаю о вас, Моника, одно: у вас была и есть гордая, красивая душа, устремленная ко всему тому, что пробуждает добрую, но несовершенную человеческую волю. Ваша стихия — справедливость, и страдание не унизило, но возвысило вас.
— О, если бы это было так!..
— Страдание пробуждает к жизни, Моника, оно губит ничтожных и закаляет сильных. Верьте мне. Все дурное позади — перед вами новая дорога.
— Как мне жаль, — вздохнула она, — как бы я хотела отдать вам девственное сердце, еще ни для кого не бившееся, кроме вас.
— Вы плачете?
— Да, я плачу о прежней маленькой Монике, об ее утерянной свежести, плачу о том счастье, которое могла бы испытать в первый раз, в ваших первых объятиях. Я плачу о маленькой Монике тети Сильвестры…
Нежный голос, полный безысходной тоски, проникал до глубины его сердца. Глаза его наполнились слезами.
— Не плачь… Умоляю тебя, не плачь! Неужели ты не знаешь, что в ослепительных лучах настоящей любви тают, как дым, все черные призраки? Не бойся ночных кошмаров! Мы только начинаем жить. Мы просыпаемся с утренней зарей.
— Любовь моя, — прошептала она.
Лицо ее, мокрое от слез, просветлело, как росистое утро. Он протянул руки, и она, склонясь над постелью, приникла к его груди своей грудью, защищенной, как щитом, белым больничным халатом. Никогда еще не испытанная стыдливость удержала ее от объятия. И обоим им в этот блаженный миг не пришло в голову отдаться сжигающей их страсти.
С сияющим лицом он ласкал ее бронзовые волосы, глядя в счастливое лицо:
— Не бойся ничего. О, как я буду любить тебя!
— Мне чудится, что я в гнезде, где никакая буря не может меня настигнуть. Мы на вершине дерева, и вокруг нас — лесное одиночество… — прошептала Моника.
Через неделю, как предсказал доктор Люмэ, Жорж встал с постели. Рана не загноилась и затягивалась.
Женщины присели в салоне возле дивана, на котором Бланшэ время от времени отдыхал. Г-жа Амбра шила, Моника болтала:
— Нет, вы еще не можете вернуться в Версаль. Вашей аудитории придется подождать недельки две. До рождественских каникул, до нового года. Во-первых, вы мой раненый и должны мне повиноваться…
В этом «вы» чувствовалась нежность интимного «ты», которое она не решалась произнести даже в часы их признаний. Это забавляло г-жу Амбра, они воображали еще, что можно скрыть любовь.
— Я ваш раненый, это верно. Но и без того я внес достаточно беспокойства в жизнь наших друзей…
Г-жа Амбра опустила работу на колени:
— Дядя Жорж, это скучно!..
— И, наконец, как мне здесь ни хорошо, но мои работы, ваши дела…
— Признайтесь, что мы вам просто надоели. Хотите, я скажу вам, кто вы такой, дядя Жорж? Вы неблагодарное существо!
Она хитро улыбнулась, соединяя их ласковым взглядом.
— Нет, мой дорогой, мой добрый друг! Я не неблагодарный. Я вечно буду помнить, что здесь, на этом диване, где вы сейчас заставляете меня лежать, Моника сжала мои руки таким пожатием, которое сказало, что ничто нас больше не разъединит. Этому дому, вам, Амбра, я обязан моим счастьем.
Г-жа Амбра стремительно встала. Ее сухое лицо подергивалось от волнения. Подойдя к «дяде Жоржу», она поцеловала его в обе щеки, потом повернулась к Монике. Та тоже машинально и растерянно встала.
— А теперь очередь за моей племянницей!
При этих словах, вызывающих самое дорогое воспоминание их дружбы, Монике почудилось между ними улыбающееся лицо ее воспитательницы. Тетя Сильвестра отождествлялась с госпожой Амбра… Моника долгим поцелуем приникла губами к другу, заменившему в ее сердце покойную. Словно сквозь дымку своего прошлого — она целовала настоящую мать.
— Знаешь, что мне пришло в голову, девочка? — сказала г-жа Амбра, овладев своим волнением. — Двадцать четвертого этого месяца исполнится ровно четыре года, как твоя бедная тетя приезжала сюда есть жареную колбасу и рождественского гуся… Я видела ее тогда в последний раз. В среду, через две недели, мы собираемся здесь опять. Будем встречать Рождество, думая о ней. Как радовалась бы она твоему счастью!
Вернувшись к своим занятиям, Жорж и Моника все же виделись ежедневно. Он несколько раз завтракал на улице Боэти. В другие дни она ездила в Версаль — обычно на одном из автомобилей Чербальевой, на дачу к Бланшэ, на авеню де Сен-Клу.
Это был старый дом, слишком большой для него одного, — с огородом, курятником, сараем, откуда она велела убрать весь хлам, превратив его в гараж, — но его можно было устроить уютно.
Старая прислуга, давным-давно живущая у «г-на Жоржа», очень приветливо приняла Монику, угадывая в ней будущую хозяйку дома.
Однажды, когда Моника приехала поездом и раньше обычного, Жорж упросил ее остаться обедать. Чудесный обед и красивая сервировка поразили ее своей неожиданностью. Когда, любуясь мимозами и розами, украшавшими стол, она выразила свое удивление, он сознался:
— С тех пор, как вы впервые вошли в этот дом, не было часа, чтобы я не мечтал о том дне, когда вы навсегда останетесь со мною. Вот почему каждый вечер все в доме вас ждет.
Она нежно оглядела маленькую гостиную, где он работал и где они сейчас обедали, патриархальную мебель… Да, для нее теперь весь мир сосредоточен в этих стенах! Вставая, он поцеловал ее руку. Он был трогателен в своей чистой радости, в своей робости, сквозь которую угадывается страстное желание.
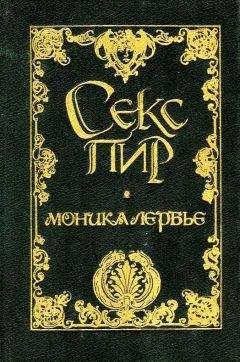
![Даниэль Дефо - Жизнь и приключения Робинзона Крузо [В переработке М. Толмачевой, 1923 г.]](https://cdn.my-library.info/books/19937/19937.jpg)



