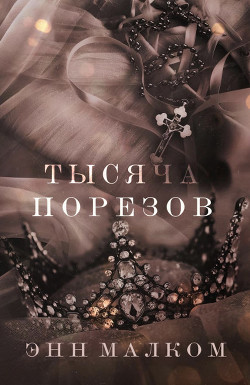Я не собиралась покупать здесь стейк за восемьдесят долларов или бутылку красного вина за триста долларов, потому что поняла, какой снобистской сучкой была раньше. Я не могла остановиться и, если честно, была в некотором роде стервой. Не из тех девушек, милых и любезных в любой ситуации. Я была колючей. Вредной. Холодной. Обладала полным набором качеств для того, чтобы стать автором книг о смерти, разложении и о зле в целом. Плюс, в Нью-Йорке мне это помогло, потому что там все были мудаками.
Здесь же, в этом крошечном городке, в этом крошечном магазинчике, все были добры и, как оказалось, неравнодушны. И, судя по растерянному выражению лица кассирши, совсем не понимали сарказма.
— Чего я должна бояться? — вздохнув, спросила я.
Девушка наклонилась ближе ко мне, ее глаза метались из стороны в сторону, как если бы она боялась пропустить кого-то в магазине. Как будто там было место, где спрятаться.
— Призраков, — прошептала она так, словно у духов был плохой слух.
Я сдержала улыбку, которая вполне могла получиться натянутой и высокомерной.
— Нет, я не боюсь призраков. Призраки — мои приятели.
Она уставилась на меня, явно не понимая моего юмора и, очевидно, все еще не узнавая меня. Что было не так уж немыслимо. Я была довольно известна, как и многие авторы. Достаточно известна, чтобы меня узнавали в аэропортах, супермаркетах и аптеках. Почти во всех местах, где люди вообще не хотели, чтобы к ним подходили незнакомцы. К счастью, мой «бренд» основывался на том, что я была замкнутой, грубой и немного злой, поэтому я не улыбалась мило для селфи и не вступала в светские беседы. Но эта девушка совершенно точно не знала, кто я такая. Но я решила проигнорировать тщеславие внутри себя, благодаря которому злилась на нее и ненавидела себя за то, что эта девочка-подросток посреди «нигде» не знает меня.
Вот в чем была моя проблема. Я ненавидела быть известной и одновременно ужасно боялась не быть таковой.
— Знаешь, с научной точки зрения неточно утверждать, что молния не ударяет дважды в одно и то же место, — сказала я, не скрывая раздражения в своем тоне. — Удар молнии — это разряд энергии, настолько сильный, что прорывается сквозь ионизированный воздух. В результате появляется молния. Это быстрый процесс. Тридцать миллисекунд или меньше. И молния сопровождается раскатами грома. И так может происходить несколько раз в быстрой последовательности. И когда невооруженным глазом видишь одну молнию, на самом деле их несколько, просто наше зрение не способно увидеть этого. Кроме того, молния может ударить в то же самое место во время другого шторма, дни или столетия спустя. Поэтому сама фраза не совсем корректна, но хорошо работает в социальных ситуациях.
Девушка смотрела на меня безучастно, то ли со скукой, то ли с замешательством, мне было все равно.
— Эмили Эндрюс была убита, — продолжила я.
Эти слова привлекли ее внимание, потому что прозвучали резко. Как пощечина. Она даже вздрогнула, как будто я ее ударила.
— Ее убийцу не поймали. У полиции мало зацепок.
Отчасти это была ложь, поскольку у меня были свои подозрения, но в данный момент это не имело значения.
— Как бы прискорбно и трагично это ни было, он или она вряд ли вернутся на место преступления, если в том же доме живет незнакомая женщина. Так что, скорее всего, в том доме я в большей безопасности, чем в любом другом месте, где убийства не происходило.
Девушка быстро заморгала, видимо, мало что поняв из моего монолога, и бросила на меня стервозный взгляд, на который точно была способна. Я воспользовалась ее замешательством, забрала пакеты и ушла, надеясь, что моя репутация останется с ней и распространится по всему городу. Когда я села в машину, задержала взгляд на баре. На секунду я всерьез задумалась о том, чтобы вернуться и поговорить с барменом о его предложении, вероятно лучшим, какое я могла получить в этом городе. Мне потребовалась все время до самого дома, чтобы понять, а не совершила ли я ошибку, когда решила сохранить свое достоинство и все органы в теле на случай, если бармен и был тем человеком, который убил Эмили.
Когда увидела вдали свой милый домик, поняла, что выбрать путь высокой морали все же было ошибкой. Потому что единственное, что меня там ожидало — это дешевое вино и ноутбук, который пялился на меня даже сильнее, чем самый знойный из барменов.
~ ~ ~
К тому времени, как я вернулась в коттедж — в своей голове я пока не могла назвать его «домом», — уже стемнело, и в животе у меня урчало.
Салат из капусты и тунца на ужин был унылым, едва съедобным. Мои навыки в кулинарии состояли только из способности набрать номер ресторана и заказать еду на вынос. Хотя в последнее время я не делала даже этого; я просто отправляла смс своей помощнице и просила ее забронировать столик.
Уф. Хорошо, что я уехала из Нью-Йорка.
Я становилась одной из тех снобов, которые относились к своим помощникам как к личным слугам и слишком много думали о том, кем они являлись. Мои социальные сети, статус автора бестселлеров по версии «Нью-Йорк таймс» и мой банковский счет, казалось, давали мне разрешение вести себя как самодовольная сука.
Я научусь готовить. Однажды. А пока буду довольствоваться дешевым вином и совершенно новой обстановкой. К тому же эта новая для меня обстановка была полна артефактов и воспоминаний о мертвой женщине. Мне нравилось копаться в чужих вещах, нравилось ощущение неправильности, возникающее при вторжении в чью-то частную жизнь в поисках темных и постыдных секретов. Возможно потому, что в такие моменты мне самой становилось легче от груза собственных темных и постыдных секретов. В любом случае я находилась в ситуации своей мечты. Я могла искать столько, сколько хотела, не боясь быть убитой как предыдущая хозяйка этого коттеджа.
Я осмотрела ее книжные полки.
О людях можно было многое сказать по тому, какими книгами они владели. И, конечно, многие знали об этом. Именно поэтому литературные подражатели запихивали на свои полки первые издания классики в идеальном состоянии. Но дело было в том, что книги не должны находиться в идеальном состоянии. Они должны быть потрепанными, испачканными грязными пальцами, когда ты торопливо переворачиваешь страницу. Возможно даже должны выглядеть так, будто однажды намокли, когда ты случайно уронила ее в ванну и тебе пришлось ее спасать. Страницы должны быть с загнутыми уголками — знаю, что как автор не должна позволять себе подобного кощунства, но я не верила в закладки. Я верила в то, что книги нужно портить по-своему. Автор уже их повредил, решив их написать. Потому что любая книга — не что иное, как сборник чьих-то травм. Авторы не хотели, чтобы вы относились к их творению с заботой и почтением. Они хотели, чтобы вы пожирали их детищ с ненасытным, жестоким голодом, и не думали о том, как их книга будет смотреться на чьей-то полке. Каждый хороший писатель думал только о следах, которые он оставит в чьей-то душе.
Итак, я всегда осуждала людей с идеальной коллекцией «великих американских романов» или британской классики — книг, вырезанных из веков. Я презирала этих людей, меня тошнило от этой якобы «книжной элиты», считавшей себя экспертами в литературе только потому, что следовали за толпой. Я ненавидела их, особенно когда они обсуждали мои книги. Когда они бубнили о моей прозе или рассказах так, как будто репетировали свою речь перед гребаным зеркалом. Идеально отполированная речь с «правильными» формулировками, некоторые из которых были дословно взяты из последнего обзора в «Нью-Йорк таймс». Мой агент убеждала меня не бить их, опасаясь скандалов и судебных исков, и я ее слушалась. Я лишь находила способ выкрасть свою книгу с их книжной полки с книгами расставленными в алфавитном порядке или с цветовой кодировкой и забрать ее с собой домой.
Полки Эмили были интересными.
У нее имелось несколько классических произведений, хорошо сохранившихся, больше для украшения, чем для чего-либо еще. Но большая часть ее коллекции была разрозненной. При ближайшем рассмотрении это почти бросалось в глаза. Корешки книг изношенные, выцветшие, порванные.