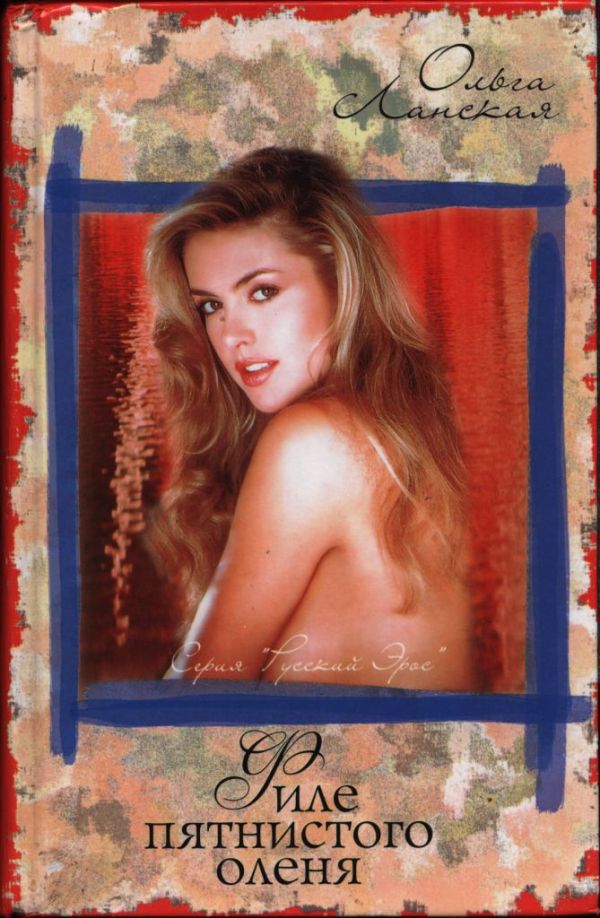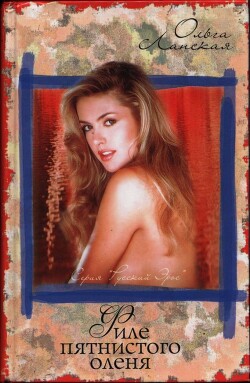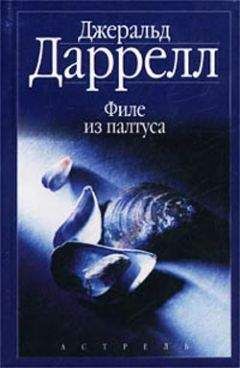Но кого-то непростого, ох какого непростого. Ее глаза блестели, на лице застыло выражение эйфории.
— Эти пати, тусовки, рестораны — как же я устала ото всего. Сережка человек был — ну, как это сказать — с большим сердцем… Всех угощал, по ресторанам таскал, ничего не жалел. Всем поможет, накормит-напоит, денег даст — и без возврата. Только вот выпить любил — мы из-за этого расстались. Такой душевный человек, такой талантливый, крутой, бесстрашный… Я Вадиму рассказывала — но ему, наверное, неприятно слышать, как я другого хвалю, он ревнивый…
Хорошо, что Вадим этого не слышал. Хорошо, что она не слышала версию, рассказанную мне Вадимом — про ее брак. Версию, которая, исходя из наглядных факторов вроде обвалившейся плитки и залитого желтым потолка, была абсолютно верной. Истинной — в отличие от того, чем мне сейчас запудривали мозги. Я не против пудры была — если она прозрачная, как диоровская. Если она ретуширует действительность. Но это был советский тональный крем, жирный, серый, портящий все. Но ей нравилось им пользоваться.
Я, кстати, присмотрелась к ней как следует. Мы сидели близко — может, и зря. Да, она была немолода. У нее были зубы цвета слоновой кости. У нее были большие руки с пухлыми пальцами, с ямочками вместо костяшек, с толстыми вычурными кольцами с камнями. Но эти вот глаза — они все спасали. Она смотрела, и становилось тепло, в них словно кофе был налит — горячий, ароматный, бодрящий. Сулящий наслаждение, обещающий удовольствие. Всегда уместный. Вкусный такой…
И ничего, что одета она была кое-как, даже неряшливо. Она была моей мечтой, к которой я протянуть могла руку, потрогать ее — вот она, близко. Как человек, всегда желавший увидеть море, с ума по нему сходящий, много перечитавший и передумавший, — не может он разочароваться при виде желтоватой воды, и все равно ему будет, что пляж грязный, замусоренный и что у чаек такие неприятные лапы. Для него оно останется таким, каким было в мыслях — с небольшой поправкой на действительность, ерундовой совсем.
Потому мне плевать было на плюшевые тапки. Я, как никогда, была близка к своей цели — которая мне сейчас казалась высшей. Я погладила ее по руке, лежавшей на столе, и она дернулась испуганно.
— Ты все-таки очень красивая, Марина. Я так много думала о тебе. Может, сходим куда-нибудь вместе? Мне кажется, тебе иногда надо развеиваться. И мне будет приятно посидеть где-нибудь с тобой. Тем более что у Вадима много дел и я не хочу ему мешать.
Она улыбнулась обрадованно и потянулась к сигаретной пачке.
— Ты знаешь, это и вправду неплохо было бы. Я сто лет нигде не была…
Я не стала напоминать ей про тусовки, пати и рестораны. Они призрачные были еще в ее рассказах, а сейчас и вообще исчезли. Но я не собиралась мелочиться и выяснять правду. Зачем?
— Вот и замечательно. Мы с тобой сходим в такое место нормальное — клуб для лесбиянок. Я туда иногда хожу — не потому, что отношу себя к ним, а потому, что там нет мужчин. К тебе ведь наверняка куча народу пристает — а там можно спокойно посидеть.
Она закатила глаза, словно показывая, как я права, действительно, хоть один вечер провести в тишине. А потом нахмурилась.
— Слушай, а там… Ну, эти… Они ничего не будут делать? Я ведь не из таких совсем — это, по-моему, еще ужасней.
— Не волнуйся, я же буду с тобой. Нас просто примут за пару — тебя ведь это не смущает?
Она покивала, но я видела, как она покраснела, как дернулся сигаретный огонек. А потом как-то слишком поспешно позвала Вадима, сделала еще кофе, и они опять погрузились в вялый разговор, вялый, потому что все это уже обсуждалось. А вскоре и заторопилась, стала звонить маме насчет ребенка, и было очевидно, что она уже устала от нашего общества. Вадим взял со стола бумаги, журналы и глазами показал мне, что пора собираться.
А я все думала, что перегнула палку, — может, это приглашение так напрягло ее, а может, мои постоянные комплименты, к которым она не привыкла, а потому пугалась? Но я успокоила себя, потому что еще могла все исправить — они с Вадимом собирались общаться по поводу журнала. А значит, за этой встречей последует другая, потом еще. И я могла бы все исправить, если все-таки имела неосторожность что-то напортить. И если я правильно поняла ее, то я была ее шансом что-то вернуть. И я хотела, чтобы она тоже это осознала.
Да, она оказалась скучной стареющей теткой, пугливой и мнительной. Да, она врала, выдумывала, пытаясь приукрасить свою жизнь, стесняясь ее. Да, она ничего не хотела, она была фригидной в физическом плане, а в моральном вообще девственницей. Но я сказала себе, что пусть мне будет непросто, но я все равно постараюсь. Я постараюсь ее чему-то научить, сделать ее свободнее, легкомысленнее, веселее. Потому что она была женщиной, которую когда-то любил Вадим. Потому что мы с ней любили одного и того же человека, она раньше, я позже. Потому, что между нами существует связь — пусть незримая и тонкая.
Стали прощаться, стоя в пыльном темном коридоре, в котором призрачными тенями висели тяжелые полки и таились по углам шкафы. Молчание напряженное, шуршание одежды, взвизгивание «молний» — все говорило о том, что пришло время уходить. А мне было немного грустно, и даже когда Вадим погладил меня по щеке, не стало легче. Мы вышли из дома, и я постояла внизу, подняв голову, не обращая внимания на падающие на лицо колючие холодные дождинки, пытаясь увидеть ее в окне восьмого этажа.
Оно было занавешено и темно — ей некого было провожать. Но хотя мне и было грустно, я улыбнулась себе и сказала, что не буду расстраиваться. Главное, что первый шаг был сделан. И не важно, сколько еще их будет — но в конце пути я обязательно увижу ее лицо в окне и почувствую на щеке адресованный мне, пусть и воздушный, поцелуй…
— Давай, милая… Я позвоню. До свидания…
Ее мокрый поцелуй, где-то в районе моего уха, еще долго холодил кожу. И даже Когда такси с зеленым огоньком затерялось в бурном вечернем потоке машин, я еще чувствовала влажное пятнышко, оставленное ею. И, посмотрев в стекло газетного киоска, слезливое, темное, увидела блеклое пятно ее помады. И Стерла медленно — сначала с шеи, потом с пальцев. Говоря себе, что знаю, что