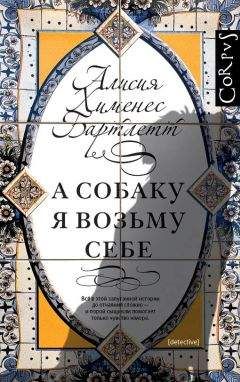Медленно на носках идет она по сцене, озираясь. Она приложила палец к губам. Тише! Ни песен. Ни шума. Вы слышите священное безмолвие гор? Выше, выше… Жизнь осталась позади, с ее докучными звуками, непонятными в царстве Молчания.
Широкие звуки льются волнами в душу. И душа растет… Ничего кругом. Горы, она и Молчание. Долина исчезла внизу, под туманом.
Разве она любила? Разве она страдала? Разве это она жила там, внизу, слабая и трепещущая перед Вечностью, перед Смертью? Разве это она боролась за счастье и гибла из-за любви?
Алый свет вдруг разлился по сцене. Торжественно, мощно гремят звуки оркестра. Маня закидывает голову, широко открывает объятия. О, неведомый простор! О, свобода души! О, солнце, льющее радость.
Она опускается на колени. В глазах дрожат слезы.
В фойе, в коридорах стоит гул. Группа журналистов окружает пожилого плотного человека, с седеющей бородой, знакомую Парижу фигуру. Так прочувствовать, так передать Morgenstimmung.
— Для этого надо быть поэтом… Что-то мистическое было в ее игре, в глазах ее. Заметьте, после — une vraie artiste [23], - задумчиво говорит знаменитый критик.
Это слово подхватывают репортеры и несут его в толпу.
Иза врывается в уборную и падает Мане на грудь, истерически смеясь.
— Ты меня так напугала, гадкая! Разве артист смеет отказываться? Иметь капризы. Ах ты, безумная Мань-я!
У фрау Кеслер глаза полны слез. А слов совсем нет. Штейнбах тоже молча и горячо целует руки Мани.
— Видишь ты теперь, какая власть у артиста? — говорит Иза. — Я сама слышала, как они смеялись над тобой и ругали. А потом? Ах, Marion, ты не знаешь своей силы! То, что ты пережила нынче, уже не вернется. Это ужасные минуты! Кто из нас их не знает? Но ты привыкнешь. Monsieur Marc так побледнел. Я думала, он упадет. Не правда ли? Как она была прекрасна, monsieur Marc! Но что же ты плясала? Ведь это совсем не то, что мы с тобой репетировали вчера?
— Не знаю, — как во сне отвечает Маня. — Но я рада, что ты хвалишь. Я думала и о тебе…
— Теперь спать, спать, спать! — говорит Иза по дороге домой. — Прими что-нибудь и не думай ни о чем. А завтра лежи весь день с закрытыми шторами, не развлекайся ничем. И пей бром. Надо держать себя вот как! В кулаке. Это великий день, Marion. Всю судьбу твою ты держишь в руках.
— И не ешь ничего, — кричит она уже у подъезда своего дома, когда автомобиль поворачивает назад. — Только чашку бульона и крепкий кофе с коньяком. До завтра!
Она исчезает в подъезде.
Когда фрау Кеслер выходит из автомобиля, Штейнбах оборачивается и крепко обнимает Маню. Он целует ее лицо, ее глаза. Молча, нежно, страстно. О, если б создать ей новую жизнь! Создать ей новый мир. Без унижений и страданий, которыми усеян путь средней женщины. Если б дать ей ключи счастья, о которых говорил Ян!
Знойное небо раскинулось над Малороссией. Полевые работы в разгаре.
Нелидов тоже целый день в поле. Он загорел, помолодел. Твердо по-прежнему глядят серые глаза. Как хорошо, что после долгой праздной зимы приходит лето, требующее всего человека, требующее упорного труда, дней без тоски, ночей без грез, каменного сна…
Теперь, кажется, все наладилось. Пятьдесят тысяч, полученные от бельгийцев, не только дали возможность расплатиться с долгами, но и создали известную обеспеченность. Положим, немало пришлось затратить на свадьбу. Разорившиеся Лизогубы ничего не могли дать за дочерью. Да он и не думал об этом. Больше всего денег ушло на свадебное путешествие и на развлечения в Москве и в Петербурге. Пришлось ради Кати круто изменить жизнь. Принимать гостей, выезжать самим. Но и эти траты не страшны теперь, когда есть на что опереться.
Больше всего его радует строительство дома. К октябрю он его закончит. День за днем следил он за ростом здания, полюбил каждый кирпич в нем. Какой-то символ кроется в его страстной привязанности к этим стенам. Точно укрыться хочет он в них от мрака прошлого. Зажечь огни. Затопить печи. Согреть тело и душу. В новом доме начнется новая жизнь. Его жена войдет хозяйкой в этот дом. Его дети будут бегать по дорожкам парка. И тогда все минувшее покажется сном. Он скажет себе тогда: «Я счастлив…»
Под вечер он стоит у смолкнувшей жнейки. Работы закончены. Доверху полны снопами громадные телеги, запряженные каждая парой крупных волов. Сейчас тронутся. Хорош урожай в этом году!
Нелидов смотрит на небо. Солнце село в тучу, и она медленно растет, по краям окаймленная золотом. Пурпурные длинные пальцы вырвались из-за ее хребта и протянулись по небу. Заалели облака на востоке. Пожаром заката облито поле, лица женщин, белые плахты, важные морды волов. Даже на землю пали красные блики. Барометр опускается с утра. Как хорошо, что он поторопился с уборкой! Наверно, еще до ночи будет гроза…
Вдали раздается топот. Он смотрит, приложив руку щитком над глазами. Кто-то скачет верхом из усадьбы. Случилось что-нибудь? Мама? Катя?
Он бежит к своей лошади. Она привязана вдали, у одинокого грушевого деревца.
— Что? Что? — с побелевшими губами кричит он. И машет рукой гонцу.
— Барыня… молодая барыня… Анна Львовна за вами послали…
«Так скоро? Неужели сейчас?»
Как хорошо в лесу утром! Париж встает рано. И по всем направлениям едут амазонки, ландо и автомобили. Но Маня знает уединенные аллеи, где не перед кем позировать и красоваться тем, кто в эти часы назначает свидания в лесу, кто ждет флирта и приключений.
Сидя на скамейке, в тени каштанов, Маня говорит себе: «Нынче я никто. А завтра обо мне будет говорить Париж. Что говорить? Не знаю. Боюсь ли я? Конечно. А если успех? Марк пошлет газеты Соне. Та напишет матери в Лысогоры. Как далеко! Точно на том свете. Дядюшка запряжет лошадь и поедет в Дубки. И за чайным столом прочтет перед Нелидовым и его женою о моем дебюте…»
И только когда день погас, Маня задрожала перед Неизвестностью.
На шоссе запел автомобиль.
«Марк едет. За мною? Разве пора?»
Она растерянно хватается за вещи, забывая, что взять, что оставить.
— Уложила. Все уложила! — говорит фрау Кеслер. — Вот картон. Вот сумка. Ах, Марк Александрович, здравствуйте! Возьмите вы эту сумку. Она ее забудет.
Господи, что за несчастное личико! Он целует Маню.
— Марк? Неужели пора?
— Да, Маня. Опоздать нельзя.
— А если б я заболела, Марк?
— Но ведь ты здорова.
— А если б Нина заболела, то и тогда я должна…
— И тогда, — холодно перебивает Штейнбах.
— Тьфу! Тьфу! Глупая, чего накликаешь беду? Возьми себя в руки.
Легко сказать! Когда душа сжалась в комочек.
Маня идет мимо кулис. Толпа рабочих в синих блузах расступается перед нею.
— Elle est belle,[24] — говорит кто-то.
Странно! Она это слышит и останавливается. И улыбка вдруг загорается в ее лице. Улыбка, и радостная, как будто она увидала цветы. Взгляд ее падает на молодого черноволосого рабочего. Потемневшими от восторга глазами смотрит он в ее зрачки.
Тоска и страх падают с души, как вериги. Она смеется.
— Дайте мне руки на счастье! — говорит она рабочим. И протягивает им свою. Они смущенно жмут ее пальцы.
— Mademoiselle… Сейчас поднимают занавес, — говорит директор, оглядываясь.
— А вы меня увидите? — спрашивает Маня черноволосого рабочего.
— Нет, сударыня.
— Почему?
— Мы не буржуа. Для нас нет места в театре. Нетерпеливые хлопки и стук несутся из зрительного зала.
Директор сердито оглядывается на рабочих и машет рукой помощнику.
— Давать занавес? — кричит тот.
Маня оборачивается к директору, надменная, полная самообладания.
— Я хочу, чтоб эти люди меня видели! — говорит она резко и твердо.
Полнокровное лицо директора заливается краской. «Опять выдумки и капризы».
— Вы смеетесь надо мной? Где же у меня места? — в повышенном тоне спрашивает он, сцепив руки. Он приподнимает плечи, и в них тонет его короткая шея.
— Если они меня не увидят, я отказываюсь выйти.
И по опыту вчерашней репетиции директор чувствует, что эта сумасшедшая способна на все. Надо уступить.
— Allez! Là! [25] — свирепо выкатывая белки, бросает он рабочим. И показывает куда-то влево, вниз толстым пальцем театрально вытянутой руки.
С радостным смехом рабочие бегут, толкаясь. Исчезают.
«Я буду думать о них. Для них буду плясать», — говорит себе Маня, улыбаясь.
— Вы готовы, mademoiselle? — нетерпеливо спрашивает помощник. — Нельзя больше ждать. Вы слышите публику? Я даю занавес.
Она молча наклоняет голову. И слышит глухой шуршащий звук.
Музыка слышится в оркестре. Она опять-таки условилась накануне с капельмейстером, что, стоя за кулисами, выслушает весь «Полет Валькирий», прежде чем показаться.
Но она выходит неожиданно. Она не крадется вдоль стены, как Дункан, с ее слащавой, неестественной, как бы молящей улыбкой. Она ни о чем не хочет молить. «Зверь хищный и загадочный, я тебя не боюсь!» — говорит в ее душе какой-то голос.