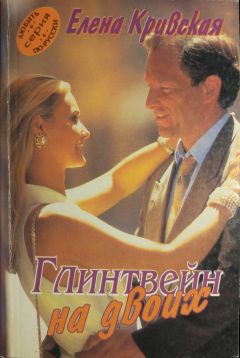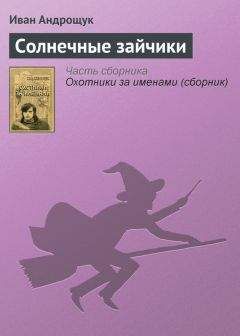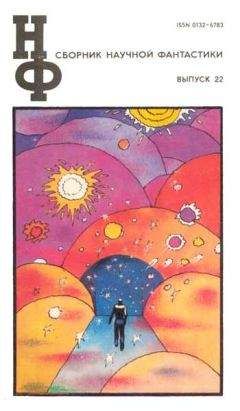Ромочка, надежно ухватив профессора за лацкан пиджака, заставил его сесть, наполнил рюмки «Беловежской» и предложил поговорить «за царя Эдипа». Ему, видите ли, во что бы то ни стало хотелось узнать о подробностях брака фиванского легендарного царя с собственной матерью. Теперь ясно, что, скорее всего, в тот момент Ромочка выполнял установку своего дяди Макагонова — напоить профессора до потери пульса. Но Ромочка переусердствовал, выполняя задание, — сам не заметил, как опорожнил три или четыре полные рюмки.
Профессор заулыбался, вспоминая сцену: он, Кленовский, разворачивает теорию Эдипова комплекса в трактовке Фрейда, как будто стоит за кафедрой, и вдруг замечает, что Ромочка крепко спит, похрюкивая, упираясь носом в селедочницу.
При виде хрюкающего Ромочки профессором овладела вселенская тоска и еще больше захотелось выйти в сад и сорвать крепкое, пахнущее осенью яблоко. Но в саду уже произошли разительные перемены — никто не бесился, не орал, не пел. Все разбрелись, как блуждающие молекулы, в беседках образовались обнимающиеся парочки, и только на ветвях огромной яблони сидели и щебетали две аспирантки Макагонова, одинаковые в своих ярких куртках, как два снегиря.
От этого зрелища Кленовскому почему-то стало еще тяжелей, давило что-то, и он решил высказать это человеку, которого все, и он сам, считали его старым приятелем, — виновнику торжества. Он знал потайной уголок на даче, где хозяин иногда скрывался от назойливых гостей или вел задушевные беседы с друзьями. Это была ниша в библиотеке Макагонова, сплошь уставленная чучелами птиц и маленьких зверьков — хозяин увлекался коллекционированием.
Профессор не ошибся — Макагонов был тут. Из-за шкафа, отгораживавшего нишу, сочился неясный свет и доносились странные звуки. Ступая по мягкой медвежьей шкуре, устилавшей пол, Кленовский задевал головой за чьи-то перья и клювы, прежде чем добрался до ниши. Теперь ему явственно слышались вздохи и вскрикивания, шепот. По инерции он добрался до шкафа, не задумываясь о природе странных звуков, заглянул в нишу.
При свете ночника было видно, как двое, она и он, стоя, вздрагивая и вскрикивая, занимались любовью. Появление профессора заставило страшно округлить глаза человека, стоявшего к нему лицом, его, так сказать, старого приятеля. Но тот даже не попытался выпустить из рук тело партнерши. Она стояла спиной, но по яркой блузке, которую она примеряла полдня, по форме обнаженных ягодиц и бедер Кленовский безошибочно узнал свою жену.
Он узнал и не узнал ее. Таких вздохов, таких стонов он не слышал от нее раньше, даже в самые интимные минуты. Она же и не оглянулась. Партнеры отчаянно вцепились друг в друга — очевидно, ловили последние секунды блаженства, просто вырывали их друг из друга. Макагонов умоляюще дернул бровью: уйди, ради Бога, потом обо всем.
Странно, но профессор послушался. Был шок, который оказался сильнее, чем действие двух-трех рюмок, которые заставил его выпить Ромочка. По крайней мере, в памяти образовался кратковременный провал.
Следующее его воспоминание — опять Ромочка. Он уже слегка отошел, выбрался из селедочницы и гладит Кленовского по голове, норовя коснуться его щеки своей лоснящейся мордой, от которой разило перегаром и селедкой.
— Пей, — говорил племянник Макагонова, поглаживая его по волосам. — Что, не повезло тебе? Жену увели? Пей!
Профессор послушно выпил. Водка была какая-то странная. Возможно, Ромочка долил в «Беловежскую» пиво, чтобы крепче задурило голову. Но Кленовский выпил рюмку и другую этой бурды. А Ромочка тянул:
— А мне, думаешь, не обидно было? Когда моя… Направо и налево? Помнишь? А вы все смеялись?
Профессор помнил, как все смеялись, слушая о любовных приключениях Ромочкиной жены, которая умудрилась переспать с доброй третью академического института. Макагонов рассказывал об этом в тесном кругу с большим юмором, и все смеялись, и Кленовский, кажется, тоже. Но теперь ему не было совестно за этот смех. Ему казалось, что беда Ромочки — вовсе не беда, по сравнению с его собственной. Над рогоносцами смеялись еще в старинных водевилях. Разве можно было сравнить те игрушечные измены с тем, что случилось с ним, Кленовским? Он изо всех сил старался не быть смешным. Не терять достоинства. Выпил еще две рюмки, услужливо наполненные Ромочкой.
Последнее из сохранившихся воспоминаний об этом дне рождения — он, профессор, в полутьме, разрываемый цветомузыкой, в окружении тел, дергающихся, покачивающихся, извивающихся. И она, Виктория, в этом кругу. И Макагонов. И все как будто ничего не произошло, и он не потерял своего достоинства. Не стал смешным.
А наутро состоялись два коротких разговора. Первый — с Макагоновым, по телефону. Макагонов позвонил первым. Ему казалось, наверное, что так будет лучше.
— Извини, дружище, — говорил севшим от перепоя голосом Макагонов, — так уж получилось… Но ты знаешь, я не хотел. Это она…
И добавил, после продолжительной паузы:
— Все они, понимаешь, стервы.
И вновь — длительная пауза. Слышно было, как Макагонов покашливает в трубку.
— Видишь ли, дружище, — заговорил он опять, — я думаю, что все к лучшему. Она, понимаешь ли, тебя недостойна. Надо было, чтоб у тебя глаза открылись. Вот я… так сказать, помог тебе открыть глаза… по-дружески…
— Спасибо за дружбу, — вымолвил, наконец, Кленовский и положил трубку.
А она, после ночи, проведенной в разных комнатах, наутро сказала, покрывая губы слоем помады:
— Да, я изменяла тебе. И это было не в первый раз. Странно, что ты об этом не догадывался.
Он пожал плечами и стал протирать очки. Она начала раздражаться:
— Да, это было прежде, и не раз! И очень глупо, если ты сам не имел никого на стороне.
Он опять пожал плечами. Что же в этом глупого?
— Неужели у тебя никого, кроме меня не было? — удивилась она, облизнув напомаженные губы. — Но это, мой милый, кое о чем говорит.
— О чем же этот говорит? — спросил он устало. Он чувствовал, как начинает раскалываться череп — от выпитого накануне коктейля из «Беловежской» с пивом.
— О том! — уже кричала она. — О том, что у тебя не было и нет того, о чем мечтает женщина. Уж кому об этом знать, как не мне?
Я хочу, чтобы и ты, наконец, об этом узнал. Считай, что я тебе открываю глаза на себя самого.
Странно это было — второй человек открывал ему глаза за одно утро. Не слишком ли?
— Послушай, — тихо проговорил он. — Отчего ты кричишь? Можно подумать, что это ты застала меня с любовницей в кабинете.
Через несколько часов ее не стало в квартире и не было уже год. За этот год он так и не нашел ответа на вопрос, над которым мучился в первую бессонную холостяцкую ночь. Плакать он не умел. Поэтому оставалось только бессчетное число раз переворачиваться с боку на бок и задавать себе один и тот же вопрос: что имела в виду Виктория, говоря о том, чего у него нет? Ему-то казалось, что все на месте. Вообще все на своем месте.
Тридцать лет назад худенький длинный студент с волосами цвета меди и карими глазами и вовсе не задумывался о том, что в нем должно быть что-то особенное, что привлекает девушек и женщин. Во всем мире серьезной он считал только одну вещь — классическую филологию. Делай свое дело, думалось ему, а все остальное образуется.
Он с отличием закончил университет, аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему, связанную с античной лирикой. Он в совершенстве овладел мертвыми языками — древнегреческим и латынью. До двадцати девяти лет он проходил, как называли его однокашники, девственником. И это всех очень потешало. А ему и в голову не приходило, что это может быть темой для шуток.
После двадцати девяти ему постепенно пришло в голову, что его служение классической филологии должно быть увенчано какой-нибудь наградой. И как было не считать наградой то, что произошло позднее?
Он добился известности — в среде тех двух-трех сотен людей на планете, которые так же, как и он, занимались античной лирикой, в совершенстве владели древнегреческим и латынью и год за годом проводили в пыли библиотек и архивов. Он женился на красавице, по-своему любил ее, и она, казалось ему, не была к нему равнодушна. Он имел от нее сына, который вырост, женился, как полагали многие, удачно, и выехал за границу.
Оказалось, что он ошибался. Оказалось, что никаких наград за занятия классической филологией в мире нет, за исключением, может быть, самой филологии. Оказалось, что у него не было такого, о чем он столько лет не догадывался.
Безусловно, в интимных делах он не думал только о себе, он делал все возможное, как казалось ему, чтобы она получала удовольствие от любви, и она это, скорее всего, имела. Если только это не было искусным притворством.
Про все это думал профессор и теперь, в этот грустный вечер — вечер рождения его старого друга, думал уже спокойно и печально, доливая второй фужер с коньяком. Кое-какая награда за сегодняшний трудный день все же ожидалась. На днях его немецкий коллега прислал из Германии уникальную вещь — том, где были собраны все тексты и фрагменты древнегреческих поэтов, с громадным научным комментарием. Вечер обещал подлинное блаженство — наедине с фундаментальным изданием.