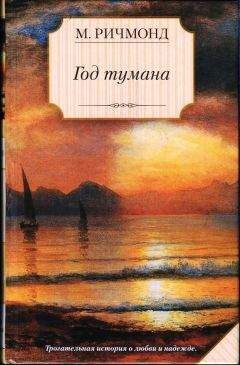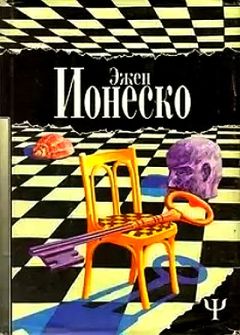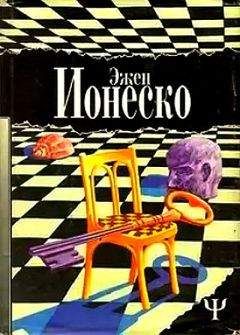На обратном пути меня всю трясло, пальцы онемели, в горле пересохло. Я вскарабкалась на верхушку дюны, огляделась вокруг, но во всем мире, наверное, не осталось ничего, кроме непроницаемой белой дымки тумана и невыразительного глухого гула автомобилей на шоссе. Какое-то время я стояла неподвижно, а потом сказала вслух:
— Думай. И не паникуй.
Снова вперед, в бесплотную жемчужную завесу — еще полмили по пляжу; холм, с Клифф-Хаусом на вершине; развалины Сутро-Басс; кафе Луиса. Справа начинается длинная пешеходная дорожка, которая упирается в шоссе; за ним расстилается парк Голден-Гейт; позади на много миль тянется пляж, а слева шумит холодный серый океан. Как будто находишься в самом сердце вытканного туманом лабиринта с невидимыми стенами и неисчислимым количеством распутий. Ребенок пропал на пляже. Куда Эмма могла деться?
Снова и снова буду возвращаться к этому дню и сохраню записную книжку, в которую заносила все детали. Там останутся наспех сделанные наброски, чертежи моих перемещений, страница за страницей, на которых пыталась вернуться в прошлое. Будто память — вещь надежная, события не стираются из нее так же быстро и безвозвратно, словно карандашные строчки в блокноте под ластиком. Скажу себе, что где-то там, погребенный в замысловатых катакомбах моего сознания, есть ключ к разгадке — нечто крошечное и затерянное. То, что приведет к Эмме.
Все захотят узнать, в какую именно секунду я поняла, что девочка пропала. Все захотят узнать, не видела ли на пляже кого-нибудь подозрительного, не слышала ли чего-нибудь до или после того, как малышка исчезла. Все — полиция, репортеры, Джейк — станут опять задавать одни и те же вопросы и с надеждой заглядывать мне в глаза, как будто от этого что-то вспомню и простым усилием воли сложится головоломка, в которой недостает фрагментов.
Вот что скажу им, вот что знаю наверняка: мы гуляли по пляжу с Эммой, было холодно, лежал густой туман. Она выпустила мою руку и побежала вперед. Я остановилась, чтобы сфотографировать мертвого тюленя, потом отвернулась в сторону шоссе, а когда посмотрела вперед, кроха пропала.
Единственный человек, которому расскажу всю историю целиком, — моя сестра Аннабель. Только она поймет, как можно потратить десять секунд на краба и пять — на похоронную процессию. Только она поймет, отчего мне так хотелось, чтобы Эмма увидела мертвого тюленя; в ту секунду, когда она исчезла, я строила планы, как бы завоевать ее маленькое сердце. При разговоре с остальными буду тщательно подбирать слова, отделяя важные детали от ничего не значащих подробностей. Они услышат похожую версию, но другую: мы с девочкой гуляли по пляжу. Я отвернулась на несколько секунд, а когда посмотрела вперед, девочка исчезла.
Это похоже на серию фотографий. Вот стою в самом центре лабиринта, не в силах разглядеть, какие дорожки заканчиваются тупиком, а какая, единственная из всех, ведет к потерянному ребенку. Знаю, что должна полагаться на собственную память, которая непременно выручит, знаю, что у меня только один шанс.
История, которую расскажу, определит направление поисков. Если я ошибусь, в финале неизбежно произойдет крушение надежд; если нет — подсказка выведет полицию к ребенку. Нужно ли говорить о почтальоне на парковке, о мотоцикле, о человеке в оранжевом «шевроле», о желтом «фольксвагене»? Или же тюлень, катафалк, бетонная стена и волны куда важнее? Как отделить значительное от незначительного? Один промах, одна ошибка в отборе деталей — и все рассыплется.
Площадь круга равняется пи-эр квадрат.
Время — континуум, который тянется вперед и назад до бесконечности. Это помню еще со времен ученичества.
В девятом классе школы наш учитель, мистер Томас Суэйз, неизменно бодрый и довольно подозрительный тип, по слухам, защитивший докторскую степень каким-то чудом, нарисовал мелком на доске огромный круг. По внешней его стороне и на прямой линии, проведенной из центра, он написал несколько цифр и формул. Его бицепсы так и играли под рукавами белой футболки. «Радиус, диаметр, окружность», — отчеканил он, и великолепно поставленный голос проник в мои сладкие отроческие грезы. Мистер Суэйз обернулся к классу и, глядя прямо на меня, покатал между ладонями ослепительно белый мелок.
Сквозь длинную вереницу окон в комнату лился солнечный свет, воспламеняя медно-рыжие волосы сидевшей впереди девочки; от нее пахло жевательной резинкой. Моя рука лежала на крышке парты прямо в солнечной лужице; на большом пальце запеклась капелька крови — я обкусала ноготь до мяса. В голове ровным фоном стоял сводящий с ума гул. Мистер Суэйз отвернулся к доске. В заднем кармане его синих джинсов лежало что-то круглое.
— А самое главное — это площадь, — изрек он.
Мои колени сами собой раздвинулись, и по бедрам на пластмассовое сиденье щекотливо скатились капельки пота.
За несколько лет до этого, еще в третьем классе, миссис Монк, передвигая стрелки огромных картонных часов, объясняла, что такое время. Секунды подобны песчинкам, упрощала она, минуты — камушкам, а часы — это кирпичи, из которых состоит прошедшее, настоящее и будущее. Она говорила о днях, годах, десятилетиях и веках, о грядущем тысячелетии, которое все мы встретим взрослыми. Потом широко развела большие руки и прошептала: «Эпоха». В маленьком классе, где кондиционер отчаянно боролся с апрельской жарой, миссис Монк, «Учитель года-1977», наставляла нас, улыбалась и неимоверно потела.
Я сидела за деревянной партой, смотрела на огромный круг со стрелками и плакала. Миссис Монк подошла ко мне и коснулась теплыми, влажными пальцами моей шеи.
— Эбби, в чем дело?
Я уткнулась в ее рыхлый, мягкий живот, зарылась лицом в складки трикотажа и призналась:
— Не понимаю, что такое «время».
Меня смутили не часы сами по себе, не «полвторого» и «без четверти», а скорее, сама суть времени. И отчего-то не находилось нужных слов, чтобы объяснить это нашей учительнице.
Что смущало еще сильнее, так это длинные промежутки между отходом ко сну и пробуждением — темные часы, когда сознание пускалось в опасные и увлекательные путешествия. Во времени можно заблудиться, ужасное и прекрасное может длиться там бесконечно, хотя когда наступало утро, мама неизменно выглядела как и прежде, и Аннабель не старела, и папа вставал, надевал костюм и шел на работу, словно ничто не изменилось. Все казалось, словно живу в ином мире, нежели они, что моя семья спит, пока я странствую. Чувствовала на душе груз ответственности, как будто от меня одной зависело благополучие всей семьи.
Голос миссис Монк остался в памяти и после того, как я научилась узнавать время, но ровный, неостановимый ход времени беспокоил по-прежнему. Сидя на уроке мистера Суэйза и разглядывая тусклые хромированные часы над доской, Эбби — девочка, не понимающая сути времени, — мечтала о том, чтобы стрелки остановились и день длился и длился.
— Так как мы вычисляем площадь круга? — спросил доктор Суэйз.
Представляю себе маленький круг, в который заключено тельце ребенка. Девочка стоит на пляже и тянется за морским ежом, а из тумана возникает высокая фигура и рука незнакомца затыкает малышке рот. С каждым шагом человека из ниоткуда круг все расширяется, с каждой секундой площадь растет.
Где ребенок? Чтобы получить ответ, надо решить безумное уравнение: пи-эр квадрат.
Комната маленькая, с жесткими пластмассовыми стульями и бетонным полом. В углу — этакий странный штрих, помещенный сюда, возможно, секретаршей или чьей-то заботливой женой: мозаичный столик с красивой лампой. Там что-то щелкает и гудит, когда под светоотражательный колпак залетает мотылек. Массивные металлические часы отсчитывают секунды. Джейк томится в другой комнате, за закрытой дверью, пристегнутый к какому-то хитроумному аппарату. Человек, сидящий за монитором, задает вопросы и следит за сердечным ритмом «клиента» в поиске неких скрытых мотивов или тщательно завуалированной лжи.
— Сначала следует проверить семью, — распорядился детектив Шербурн. — В девяти случаях из десяти это мать, или отец, или сразу оба, — говорил он, наблюдая за мной, будто ждал, что вздрогну. Глупо.
— Я не ее мать, — ответила. — Даже не мачеха. Пока что. Родная мать собрала вещи и ушла три года назад. Ее ищете?
— Мы учитываем все.
Часы тикают, круг расширяется, и когда-нибудь наступит моя очередь.
Куда взгляд ни кинь, везде полицейские, поодиночке или группами. Бодрятся кофе из пластмассовых стаканчиков, переминаются с ноги на ногу, тихо разговаривают, обмениваются шутками. Один стоит, положив руку на пистолет; ладонь касается металла нежно, как будто оружие — продолжение тела. Вчера Джейк примчался домой из Юрики, куда уехал на выходные к другу. Ночь мы провели в полицейском участке, заполняя бумаги, отвечая на вопросы и припоминая подробности. Сейчас восемь утра. Прошло двадцать два часа. Кто ищет Эмму, пока я сижу здесь и жду?