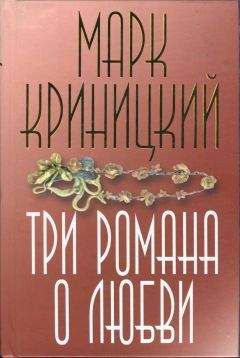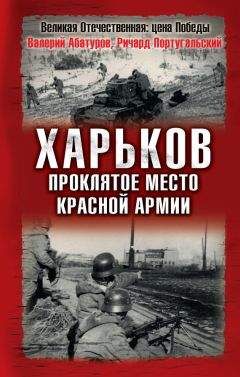— Молчи, гужеед! — сказала Тоня. — Благородие… Очень надо это ваше благородство. Небось, нашей сестре руку подаете, потом дома с мылом моете. Как же! Потом какая-нибудь мадам за руку вас возьмет. — (Иван Андреевич покраснел еще гуще при воспоминании, как спиртом мыл руки). — А каждая из этих мадам все равно такая же, как я… даже хуже. Чистоту и невинность из себя разыгрывают. Знаю я их.
— Тоня, я же с вами не спорю. Я сам невысокого о них мнения. Но вы мне все-таки не хотите сказать, чем я вас обидел.
Иван Андреевич, старался подавить в себе обиду и раздражение, нагнулся над Тоней. Она выпрямилась, отстранив его рукой.
— Извините, что дотронулась.
— Вы, Тоня, не хотите мне объяснить?
Она отвернулась.
— А, да что с вами говорить? Вот и наша слободка. Наше место — тут, а ваше, чистые и благородные, чтобы черт вас подрал! — там.
Извозчик нырнул в тихую улицу одноэтажных домиков с тщательно закрытыми ставнями. Из одного из них доносилась унылая, заглушенная музыка, от которой хотелось не веселиться, как делали, вероятно, сейчас те, для которых она игралась, а плакать навзрыд.
Тоня закуталась в горжетку и замолчала. Они нырнули еще в два переулка и пересекли несколько улиц, таких же наружно тихих. В одном месте стоял ночной сторож и упорно стучал в колотушку.
Вдруг Тоня обернулась.
— Чего там объяснять? В баню поедете? Без Савелки?
— Поеду, — сказал Иван Андреевич тихо, стыдясь извозчика.
Помолчав, она смягчилась.
— Теленок вы… вот что. Объяснять тут нечего. Проститутка не вещь, чтобы ею распоряжаться. Да, есть дома: это правда. Вам нужна женщина? — приезжайте. Слов нет. Выбирайте себе по нраву. Слов нет. Никто на вас за это не в претензии и не в обиде. Запритесь, делайте, что хотите. И я понимаю: я для вас женщина, вы для меня приехали. Пьяны вы: я тоже понимаю. Болен, — я тоже понимаю. Я буду вас остерегаться, меры свои принимать. Но я вас могу уважать. Вы за делом приехали. А так… чтобы душу человека купить, надругаться… ровно как с вещью бездушной какой… для протокола… для бумаги… — такой вы не найдете…
— Да я и не ищу. Я раньше так думал. Да, в этом я виноват. Я это признаю, — говорил Иван Андреевич, и у него было так светло на душе, точно вдруг разом окончилась какая-то темная полоса его жизни, и он вышел на простор и свет.
— Как же, признаете вы. Ну, а что же вы, в таком случае, будете теперь делать?
— Ничего. Я раздумал, Тоня, разводиться.
Она грубо расхохоталась.
— Не на дуру напали. Не надейтесь.
— Как хотите, Тоня. Я вам сказал правду.
— Как же вы будете теперь?
Она с любопытством сверкнула на него глазами из-под низко надвинутого капора.
— Долго об этом говорить. Вот поедемте… только не туда… Мы поедем ко мне на квартиру. Тогда поговорим. Правда, да?
Он ласково сжал ее руки. Господи, как хорошо! Отчего ему сейчас так хорошо?
Тоня продолжала смотреть с любопытством.
— Что-то я вас не пойму. А что не пьяны, вижу.
Подумав еще с мгновенье, она сказала:
— Поедемте. А там ничего? Вы где живете?
Он ей объяснил. Она слушала с тем же любопытством.
— Нет, страшно. Не поеду.
— Чего же вы боитесь?
— Отвыкла. Да и так… Нет, не поеду. Чего там? Глупости. А вот и наша улица.
На углу, у знакомого домика, стояли две тройки, потряхивая бубенцами.
— Вот и они, — сказал Бровкин.
Боржевский суетился.
— Ладно, — негромко сказал Прозоровский в воротник драпового пальто, которым закрывал рот.
— Поедемте в «Столичные», — таинственно шелестел губами Боржевский.
— Я поеду домой, — сказал Иван Андреевич.
— Ошибаетесь. Вы поедете туда, куда поеду я, — крикнула Тоня, выпрыгнув на мостовую.
Она щелкнула Боржевского по носу.
— Слушай, Савелка, скоро ты, старый пес, сдохнешь?
— С какой стати мы поедем в «Столичные»? — обратился Иван Андреевич к Боржевскому. — Мне там решительно нечего делать.
— Ну!
Тоня топнула каблуком, а Бровкин поднял толстую руку и, улыбнувшись, смешно покивал сжатыми пальцами широкой ладони, что должно было означать, что Иван Андреевич поедет.
— Ты, старый пес, и бегать-то разучился. Еле ходишь. Один у тебя лай остался, да и то сиплый, — продолжала Тоня дразнить Боржевского, и нельзя было понять: бранится она с ним или шутит.
— Я-то бегать разучился?
— А ну.
Она отбежала несколько шагов. Боржевский смешно наклонил голову, снял шапку и, прижав локти к бокам, вдруг ринулся на нее Тоня взвизгнула и побежала. Густой топот наполнил морозную пустоту улицы. Послышались свистки полицейских. Скоро было видно, как в отдалении, в одинаковом друг от друга расстоянии бежали две черные тени.
— Ладно. Вертай, — крикнул Бровкин, наставив ко рту ладони.
В светлом отдалении улицы слышались шумные голоса. Топот прекратился.
— Верта-ай! — ревел Бровкин.
В отдалении шла группа людей. Впереди всех Тоня, размахивая белым капором. Она звонко смеялась. Два ночных сторожа дружелюбно беседовали с Боржевским.
— Господа, пожалуйста, не кричите так громко, — сказал один из них, подойдя. — Можно и покричать, но зачем же, как говорится, глотку драть?
— Ладно. Проходи, кикимора, — сказал Бровкин.
Тоня вскочила в пролетку.
— Трогай, извозчик.
— «Столичные» номера, барин, немного на виду, — неожиданно сказал тот, сочувственно повернувшись к Дурневу.
— А ты рассуждай больше! — крикнул Боржевский. — Подавай с переулка, с черного хода. Да мы на тройках вас еще обгоним. Трогай, с Богом.
Из двери дома вышли девушки и Прозоровский.
— Я вся с маслом, как блин, — говорила Эмма, смеясь и пожимая плечами.
Вскоре обе тройки их действительно обогнали. На ходу Дурневу и Тоне что-то оттуда говорили, махая шапками и муфтами. Одна тройка колесила от тротуара к тротуару, точно пьяная. На одном повороте они наткнулись на нее. На подножку к сидевшим в тройке влезал человек в кругленьком картузике, с виду похожий на подмастерья. Он висел еще на подножке, тщетно стараясь примоститься хотя сбоку на переднем сиденье, когда лошади уже взяли с места. И пока тройка не пропала из вида, было видно его мотавшуюся в неудобной позе фигуру.
На тротуаре, возле «Столичных» номеров с переулка их ожидал уже коридорный, который юрко повел их вверх, по лестнице.
— Пожалуйте, это для вас.
Он отворил дверь в небольшой номер с широкой кроватью и умывальником:
— Кроватку мы сейчас постелим. А прочие господа все прошли в третий номер.
— Я не пойду туда, — сказала Тоня, бросив муфту через весь номер на окно. Иван Андреевич стоял, осматриваясь.
— Ах, да раздевайтесь же вы, ради Бога, да велите подать чаю и коньяку.
Он позвонил.
— Слушаю-с, — сказал коридорный, и было такое впечатление, точно он все время торчал за дверью.
— Здесь холодно, — жаловалась Тоня, когда коридорный принес и то и другое.
Пока она пила чай и коньяк, коридорный с громом взбивал принесенные им свежие подушки.
— Ну, можете.
Она сделала ему знак уйти, встала и бросила шубку на кровать.
— Согрелась.
Ловким движением она расстегнула сзади крючок и разом сорвала с себя кофту. Юбка сама собою упала вниз, и она осталась в голубом корсете с голыми руками и в черном трико. Теперь ее фигурка походила на небольшую гибкую змейку в странном панцире, вставшую на хвост и внимательно смотревшую неподвижным взглядом.
— Выпейте и вы.
— Зачем?
Два красных пятна горели у нее под глазами.
Она схватила его за руку левой рукой и упругим движением притянула к себе.
— Снимите ваш великолепный сюртук. Что мы, венчаться, в самом деле, с вами приехали? Довольно глупо. Ну, ну, снимите, не рассуждайте.
Она ласково сняла с него сюртук и аккуратно повесила на спинку кровати.
— Маленький.
Она тронула его пальцами за подбородок и скорчила гримаску.
— Тоня, вы меня обманываете. Я вам противен.
Она иронически опустила уголки губ, потом опять неподвижно поглядела на него и отрицательно покачала головой.
— Да? — спросил Иван Андреевич, волнуясь.
Ему хотелось, чтобы девушка поняла, как она ему близка, как необходима в этот момент.
Тоня, продолжая смотреть неподвижно, серьезно кивнула головой. Он взял ее за тонкие маленькие круглые руки выше локтей, ощутив острую свежесть и вместе горячую теплоту ее тела, и вдруг вспомнил, что дверь не заперта.
Она уловила его мысль.
— Никто не войдет. Не надо.
Она прислушалась, вытянув шею, и вдруг вся плотно надвинулась на него. Ее маленькие, смугло-желтые плечи мелькнули близко, близко.
Влажные губы полураскрылись жадным движением.
Он легко поднял ее от пола и бросил на кровать. Еще раз странно близко мелькнула закинутая голова и вдруг рассыпавшиеся волосы.