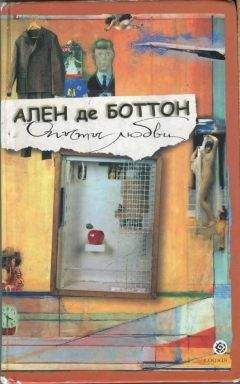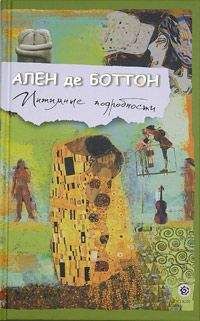6. Близости сопутствовал избыток информации, касавшейся не философского, а, напротив, повествовательного аспекта экзистенции: запах Хлоиной кожи после душа; звук ее голоса, когда она говорит по телефону в соседней комнате; урчание живота, когда она голодна; выражение ее лица в тот момент, когда она собирается чихнуть; форма ее глаз, когда она только что проснулась; то, как она встряхивает мокрый зонт; звук, с каким расческа проходит сквозь ее волосы.
7. Узнав друг друга лучше, мы ощутили потребность в новых именах друг для друга. Любовь застает нас с тем именем, которое у нас уже есть, даваемым нам при рождении и узаконенным записью в паспорте и всевозможных документах. Так разве не естественно, что при той неповторимости, которую любящий видит в партнере, эта неповторимость ищет себе выражения и находит его (пусть косвенно) в имени, неизвестном другим? В то время как в своей конторе Хлоя продолжала зваться Хлоей, для меня (мы сами не понимали почему) она стала просто Тиджи. Что касается меня, то я, рассмешив однажды Хлою рассказом о страданиях немецких интеллектуалов, заслужил (возможно, не такое загадочное) прозвище Weltschmerz[42]. Важность этих имен была не в том, что конкретно они означали — мы могли бы в итоге звать друг друга Пьют и Тик, — но, прежде всего, в самом факте, что мы решили дать друг другу новые имена. Тиджи подразумевало то знание Хлои, которым не обладал, к примеру, банковский служащий (знание ее кожи после душа, звука, с которым расческа проходит сквозь ее волосы). Хлоя было связано с ее жизнью в обществе, Тиджи существовало помимо этой жизни, принадлежа более изменчивому и единственному в своем роде пространству любви. Это была победа над прошлым, символизирующая крещение и рождение заново благодаря любви. «Я встретил тебя с уже готовым именем, — говорит влюбленный, — но я дал тебе другое, чтобы обозначить разницу между тем, кто ты для меня, и тем, кто ты для всех остальных. Тебя могут звать NN на работе (в общественной сфере), но в постели со мной ты всегда будешь „Моей Морковкой“»…
8. Элемент игры, заставлявший нас придумывать друг другу прозвища, с них перешел и на прочие сферы языка. В то время как обычный диалог предполагает непосредственный обмен информацией (а следовательно, всегда имеет определенную цель), интимный язык избегает правил, отрицая необходимость очевидного и постоянного направления. Диалог может вовсе превращаться в игру — при полном отсутствии какой бы то ни было логики, нисходя до потока сознания, оставляя путь сократической логики для карнавала, — уже не обмен информацией, а один только голос. Любовь истолковывала предположение о том, что лежало на грани произнесенного и непроизнесенного, выразимого и невыразимого (любовь как воля, подталкивающая к тому, чтобы распространить понимание на едва обозначенные мысли партнера). Такое же различие существует между бессмысленным рисунком и чертежом: рисовальщику не нужно знать, куда поведет его карандаш, он уступает ему, как воздушный змей отдается воле воздушных потоков. Свобода движения без всякой цели. От посудомоек мы переходили к Уорхоллу[43], к крахмалу, к народу, к проектированию, к проектировщикам, к попкорну, к пенисам, к недоношенным детям, к абортам, к инсектицидам, к укусам, к полетам, к поцелуям. Была упразднена всякая языковая цензура, не было никаких фиговых листков, потому что мы не вставали, а, лежа в кровати, делились потоком сознания. Можно было говорить о чем угодно, это была полисемантическая какофония идей. Мы легко преодолевали проблему авторства, отказываясь от своей манеры говорить и перенимая акцент политиков и поп-звезд. В противоположность занудам-грамматикам мы начинали предложение, не зная, чем его закончить, спасаемые от полного краха партнером, приходившим на помощь, подхватывая конец и привязывая понтон к очередному столбу.
9. Близость не разрушала границы между «я» и «остальные». Она лишь вынесла ее за рамки пары. «Другие» теперь находились по ту сторону двери, подтверждая подозрение, что любовь никогда не бывает далека от заговора. Частные суждения одного выливались в суждение двоих, угрозы, исходившие снаружи, разделялись на общей постели. Говоря кратко, мы сплетничали. Сплетни не всегда были злыми, чаще они представляли собой достойный сожаления продукт неспособности соблюсти корректность в наших ежедневных взаимоотношениях, откуда проистекала потребность внести свежую струю в спертый воздух накопившейся лжи. Поскольку я не могу напрямую сказать тебе о такой-то и такой-то черте твоего характера (поскольку ты не поймешь или это покажется тебе слишком обидным), я буду сплетничать об этом за твоей спиной с кем-то, кто способен понять. Хлоя стала последним пристанищем для моих суждений о мире. Все мои чувства и мысли по поводу коллег и друзей, которыми я не мог поделиться с ними, от которых я даже пытался отпираться, я теперь мог беспрепятственно разделить с Хлоей. Любовь находила себе пищу в общих антипатиях: «Нам обоим не нравится NN» переводилось как «Мы нравимся друг другу». Любовники — значит преступники. Доказательством нашей лояльности друг другу стала степень откровенности, с которой мы делились нашей нелояльностью по отношению к другим.
10. Конспирацией любовь, возможно, напоминала союз заговорщиков, но она, по крайней мере, была честна. Мы уединялись в компании друг друга, чтобы в постели посмеяться над лицемерием, без которого не обходились в светской жизни. Мы возвращались с официальных обедов и потешались над тем, насколько чинно там все совершалось, подражая манере говорить и точке зрения тех, кому только что вежливо пожелали доброй ночи. Лежа в кровати, мы могли не оставить камня на камне от значительной самодостаточности светского обращения, заново проигрывая череду вопросов и ответов, которыми только что чинно обменивались за обедом. Я спрашивал Хлою о том же, о чем за столом только что спрашивал ее бородатый журналист, она отвечала так же вежливо, как перед тем отвечала ему, но все это время ее рука под простынями не оставляла в покое мой член, а я осторожно водил ногой вверх-вниз между ее ногами. Потом внезапно, словно будучи шокирован, обнаружив Хлоину руку там, где она была, я задавал ей самым высокопарным тоном следующий вопрос: «Мадам, могу я спросить вас, что вы делаете с моим достойным членом?» — «Дорогой сэр, — был ответ, — достойное поведение члена вас не касается». Или Хлоя выскакивала из кровати и говорила: «Сэр, пожалуйста, сейчас же выйдите из моей постели, вы, наверное, меня неправильно поняли, мы с вами едва знакомы». В пространстве, созданном нашей близостью, формальности этикета проходились заново, теперь в комическом свете, как трагедия, которая за кулисами переворачивалась актерами с ног на голову, когда игравший Гамлета актер после представления обнимал Гертруду и кричал на всю гримерную: «Трахни меня, мама!»
11. Время близости мы не просто проживали и забывали, оно переплавлялось в роман, который мы с Хлоей рассказывали друг другу о себе самих, — самоповествование нашей любви о самой себе. Уходя корнями в эпическую традицию, любовь по необходимости привязана к рассказу (история любви всегда предполагает нарратив), если точнее, к приключенческому жанру, четко оформленному при помощи начал, концовок, идеи, крушений и триумфов. Дни не просто сменяют друг друга в бессмысленной череде, в романе телеология все время заставляет персонажей двигаться вперед — или читатель начнет скучать и отложит книгу. Поль и Виржиния, Анна и Вронский, Тарзан и Джейн — все они борются с препятствиями, и эта борьба укрепляет и обогащает их союз. Брошенные на произвол судьбы в джунглях, на терпящем бедствие корабле или горном склоне, сражаясь против сил природы или общества, влюбленные пары — герои эпического повествования — доказывают силу своей любви той несгибаемостью, с которой они преодолевают все трудности.
12. В наши дни любовь перестала быть приключением, происходящее не может, как раньше, быть всего лишь производной от душевного состояния персонажей. Мы с Хлоей были современными людьми, скорее склонными к монологам, чем к приключениям. Мир предоставлял гораздо меньше возможностей для романтических битв. Родителям все равно, джунгли полегли под ударами топора, общество спрятало свое неодобрение под маской всеобщей лояльности, рестораны открыты допоздна, почти везде принимают кредитные карточки, а секс из преступления превратился в обязанность. И, несмотря на это, у нас был свой роман, общая история, утверждавшая наш союз (груз прожитого, наподобие пресс-папье, удерживающий невесомое настоящее…).
13. Наша общая история едва ли могла показаться захватывающей, но важность ее была не в этом, а в том, что благодаря ей нас связывал целый ряд общих переживаний. Что такое переживание? Нечто, разрывающее череду вежливой обыденности и на короткое время дающее нам возможность воспринимать вещи неожиданно ярко в силу новизны, опасности или красоты происходящего. Пережить что-то означает раскрыть глаза во всю ширину, что обычно мешает нам делать привычка, и если такое происходит одновременно с двумя людьми, следует ожидать, что впоследствии они станут от этого ближе друг к другу. Двое, которым на вырубке в джунглях вдруг повстречался лев (если, конечно, они останутся живы), будут связаны наподобие треугольника тем, через что они вместе прошли.