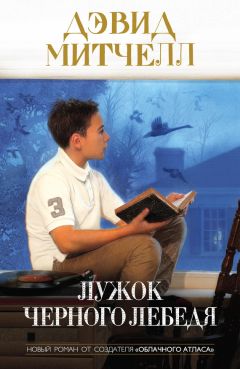— На кольцо девяносто восьмого.
— Ну вот… — лицо лейтенанта еще больше добреет. — Подожди пять минуток, сейчас фургон прибудет. Оформим клиентов и поедешь.
Анька благодарно кивает: так еще и лучше. Пешком отсюда до остановки четверть часа как минимум. Тем более что фургон — вон он, подъехал, из окна видно.
Вот только последний клиент совсем не похож на предыдущих. Наотмашь распахивается дверь, и два раскрасневшихся милиционера вталкивают в комнату высокого мужика в кроличьей шапке. Анька узнает его сразу: это ведь дядька из очереди за стенками, тот самый, который не далее как сегодня утром обновил ей печать на запястье! Милиционеры силой усаживают мужика на скамью у стены напротив лейтенантского стола.
— За что, командир? — с обидой произносит кроличья шапка. — Разве я пьян? Ну?! Ты посмотри на меня, командир. Что ты все в бумаги да в бумаги? На человека посмотри! Я человек, понял?! Командир! Командир! Разве я пьян?
Лейтенант отрывает глаза от протокола и смотрит на задержанного.
— А когда ты пьян, Миронов? — мягко интересуется он. — Ты у нас всегда трезв. Раз в две недели как минимум. Мой тебе совет, Миронов: веди себя тише. Если уж ты человек. Человек, он представителей власти уважает, а не бьется, как ёханый карась.
— Это я-то карась? — горько переспрашивает мужик. — Ии-и… эх ты, командир. Разве ж я пьян? Они ж меня из сквера взяли. Ну что я делал, кому мешал? Отдыхал на скамейке, только и всего. Это вы для плана, да? Не хватает? Не хватает для плана — хватай Миронова, да? Ии-и…
Лейтенант прищуривается.
— Кому мешал? Социалистическому правопорядку мешал. Сейчас, Миронов, зима на дворе. И в сквере тоже зима, минус семь. Вот замерз бы ты, Миронов на этой скамейке, и что тогда? Кто отвечал бы? Ты? Ты уже ответить не смог бы, Миронов. Родственники? Нет у тебя родственников, один ты, как перст. Кто тогда остается? Остается, Миронов, только он, социалистический правопорядок. Это на его ответственные плечи легла бы вся соответствующая ответственность. Это ж сколько хлопот, Миронов, сам подумай! Констатировать смерть, отвезти в морг, вскрыть, осмотреть, заказать гроб, похоронить…
— Вскрыть? — растерянно повторяет Миронов. — Кого вскрыть? Меня вскрыть? За что, командир? Да я трезв, как стекло. Хочешь, пройдусь?
Он порывается встать, но два милиционера, нажав на плечи, прижимают его к лавке.
— Дай пройтись! — выкрикивает задержанный. — Ну дай, ну что тебе стоит…
— Черт с ним, — вздыхает лейтенант, — пусть пройдет. Хлопцы, дайте.
— Спасибо, командир! Эх, где наша не пропадала…
Кроличья шапка радостно вскакивает со скамьи и отбегает к стене. Пол в комнате дощатый, крашеный; прямые линии его досок лежат перед мужиком как узенький мостик к свободе. Зачем-то поплевав на ладони, Миронов делает первый шаг. Глаза его выпучены для пущей сосредоточенности, нижняя губа закушена, руки расставлены по сторонам. Шаг, еще шаг…
Нетвердые ноги кренделями — против милицейского пола, прямого и неотвратимого, как протокол. Нетрезвый человек против равнодушной судьбы. Присутствующие, затаив дыхание, следят за этим неравным поединком. Даже студент оторвался от своего учебника. Удивительно, но пока что Миронов идет пряменько, не сбиваясь с доски. Неужели так и дойдет?
— Йех!! — вдруг рявкает один из милиционеров, и мужик, вздрогнув от неожиданности, оступается, не добрав всего лишь одного метра до заветной цели.
— Вот видишь… — лейтенант сочувствующе разводит руками и возвращается к заполнению протокола.
Миронов какое-то время стоит, горестно мотая головой, затем снова садится на скамью.
— Менты поганые… — тихо бормочет он. — Всегда вы так… сволочи…
— Миронов, я тебя один раз уже предупреждал: веди себя тише, — говорит лейтенант, не поднимая глаз от стола. — Теперь предупреждаю вторично. Третьего последнего предупреждения не будет. Это тебе не Китай… Хлопцы, давайте изъятие.
Один из милиционеров подходит к столу и начинает доставать из бумажного пакета изъятые у задержанного вещи.
— Так, — записывает лейтенант. — Нос-платок. Зап-книжка. Карандаш. Ремень брючный. Кошелек. Мелочь монетами… считал?
— Двадцать четыре копейки, — докладывает милиционер.
Миронов вдруг резко вскидывает голову.
— А рубль? Где рубль?! Там еще рубль был! Отдайте рубль, гады! Отдайте рубль!
Вскочив на ноги, он бросается к столу, волоча за собой двух милиционеров. Те пытаются выкрутить мужику руки, но безуспешно: возмущение и жалость к пропавшему рублю придают ему поистине нечеловеческие силы. Кроличья шапка катится по полу; расхристанный, мосластый, патлатый, со сползшими до колен штанами, он наступает на сидящего за столом лейтенанта.
— Вы на кого прете?! — кричит он. — Вы на народ прете! Менты поганые! Чью кровь льете? Чью кровь?! Кровь! Кровь! Кровь!
Дикий взгляд мужика устремлен в угол комнаты. Анька смотрит туда же — на полу и в самом деле поблескивает небольшая красноватая лужица. Господи, это же мясо наконец протекло!
— Сатрапы!
Последнее ругательство взято из какого-то другого словаря и потому переполняет чашу милицейского терпения. Лейтенант багровеет и бросается на помощь подчиненным. Втроем они кое-как скручивают бунтовщика. Теперь он лежит на полу, шаря по стенам полубезумными глазами, как будто запамятовал что-то очень важное и теперь отчаянно старается припомнить. Что ищет он в краю далеком приемной комнаты районного вытрезвителя? Что бросил он на родной Петроградской стороне? Мутный взгляд мужика упирается в Аньку и медленно проясняется. Вспомнил! Вспомнил!
— Очередь! — хрипит он. — Я пропущу очередь! Командир, будь человеком! Мне ведь завтра отмечаться… с восьми до полдевятого… Командир! Вот ее спроси! Скажи ему, девушка! Не молчи, скажи. Да что ж вы за люди такие, нелюди! Я ведь тебе давеча помог, неужто забыла? Скажи-и-и…
Лейтенант озадаченно поворачивается к Аньке.
— Что он такое несет? Вы что, знакомы?
Анька кивает:
— В одной очереди отмечаемся, около мебельного на Большом. Каждый день утром и вечером… на стенку…
— На стенку? — ухмыляется один из милиционеров, вытирая со лба боевой пот. — Ему только стенки и не хватает. И взвода расстрельного.
— Отставить, — устало командует лейтенант. — Гражданочка, ты, кажется, домой спешила? Подписывай здесь и свободна. И ты, студент, тоже.
Анька подхватывает сумку с протекшим мясом и бочком, бочком, минуя лежащего на полу мужика, пробирается к двери. По дороге она поднимает кроличью шапку, кладет на краешек скамьи. Лейтенант провожает понятых угрюмым взглядом. О «подбросить до автобуса» речи теперь явно не идет: в сложившейся обстановке каждые руки на счету. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Мы и пешком дойдем, не гордые.
Держа на отлете сумку, Анька споро месит сапогами коричневую кашу зимних городских тротуаров. Отгул в кармане, сутки катятся к концу. Она сворачивает на Кировский. Здесь народу побольше. Слева впадает в площадь Большой проспект. Если присмотреться, отсюда видна витрина мебельного магазина. Сейчас возле него пусто; дородная тетка с цигейковым воротником придет сюда только к восьми утра, откроет свою тетрадку, начнет ставить галочки. Кто-то опоздает на минуту-другую, станет молить о пощаде и, скорее всего, получит ее в обмен на скромную денежную бумажку. Мы ведь не звери, правда? Кто-то не появится вовсе и будет безжалостно вычеркнут — как, например, этот несчастный мужик в кроличьей шапке. Слабые отпадают, сильные остаются. А вот и площадь Льва Толстого, кольцо девяносто восьмого автобуса.
По причине позднего времени на кольце девяносто восьмого автобуса нет ни души. Это вам не утро, когда требуется хитрить, приманивая к себе переднюю дверь. Автобус стоит тут же, невдалеке, знакомый на вид шофер читает «Советский спорт». Завидев на остановке одинокую Анькину фигуру, он смотрит на часы, сворачивает газету и трогает с места.
— Уфф, — вздыхает дверь, распахиваясь персонально для Аньки.
Она входит, держа сумку так, чтобы водитель не видел текущего мяса, — зачем зря расстраивать человека.
— Привет, — говорит шофер. — Что так поздно?
— Дружина, — улыбается Анька.
— Много хулиганов наловила?
— Ровно на один отгул. Я их так меряю…
В салоне светло и чисто. До первых двух-трех остановок он весь принадлежит Аньке: садись, куда хочешь! Она выбирает одиночное сиденье в задней половине. Если сесть ближе, то шофер будет пялиться всю дорогу, подмигивать, улыбаться, зачем ей это? Да и мясо течет, неудобно.
Только усевшись, она вдруг осознает, насколько устала. Правда, непонятно с чего: день вроде бы обычный, ничего из ряда вон выходящего. За стеклом мелькают дома, фонари, освещенные окна. Город ложится спать на пустые грязные тротуары. Снаружи темно и сыро. К ночи подморозило, так что наледь наверняка подкопила сил и расставила много новых ловушек. Зато здесь, в автобусе, рай земной. Тепло и сухо, если, конечно, забыть о подтекающем мясе. Движения на улицах никакого, так что можно чесать во весь дух от светофора к светофору. Двойной «Икарус» похож одновременно и на гусеницу, и на тигра, как опытный восточный боец, меняющий стили по ходу поединка. Он то выгибает хребтину, вытягиваясь в струну, сжимая и разжимая черную соединительную гармошку, то рычит, угрожающе припадая на передние лапы.