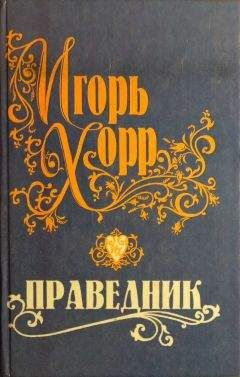— Что с маньяком?
— Портрет размножен и разослан по всем отделениям и постам.
— Портрет… — Дмитрий Васильевич дернул ящик стола и вынул оттуда отпечаток фоторобота, полученный им два дня назад. — Ты думаешь, этот пацан имеет что-то общее с убийцей?
— Так утверждает писатель Борин. Он видел его своими глазами…
— Да, я знаю. Борин. Я читал его книги. Он самый ненормальный из всех наших писателей. У меня большие сомнения на этот счет. К тому же лицо на портрете кажется мне знакомым. Ладно, черт с ним! Будем надеяться на лучшее. Что еще?
— Обстоятельства гибели Дарьи Лесковой расследуются тщательнейшим образом. Я считаю своим долгом доложить, что отношение к этому делу советника канцелярии вашего превосходительства может послужить поводом для всевозможных сплетен, что в настоящий момент крайне нежелательно. Господин Прыгунов ведет себя неосторожно.
— Мерзавец! — в адрес Прыгунова выругался Дмитрий Васильевич. — Я разберусь с ним. Сегодня же. Все у тебя, Акакий Федорович?
— Так точно, ваше превосходительство. Разрешите идти?
— Иди. И держи меня в курсе всех событий. Весь день. Докладывай каждые полчаса. Если понадобится, то чаще. Иди.
Акакий Федорович поднялся и бодрой походкой направился в дверям.
— Слушай, Акакий, — вдруг окликнул его генерал-губернатор. — А не послать ли нам все это к чертовой матери?
— Не понимаю вас? — остановившись в дверях и обернувшись, растерянно ответил начальник полиции.
— Не понимаешь? Ну ладно. Там видно будет. Иди.
Прошел час после ухода полицмейстера. За это время Дмитрий Васильевич пытался снова читать газеты, биржевой бюллетень, еще какие-то бумаги, лежавшие у него на столе, однако сосредоточиться ни на чем не мог. Раздражение его было настолько велико, что ничего не лезло в голову, все мешалось и путалось перед глазами. Он решился позавтракать, но аппетит также не пришел к нему, и человек унес кушанья почти нетронутыми. Наконец Савелий Евстигнеевич доложил:
— Их высокородие, статский советник Прыгунов прибыли-с.
Буря негодования поднялась в душе генерал-губернатора:
— А, пришел! Ну-ка быстро его сюда!
Но едва появился сам Вадим Никитович, гнев господина Савельева мгновенно улетучился.
Прыгунов, шатаясь, прошел несколько шагов и рухнул в первое попавшееся ему кресло. Вид его был совершенно жалок. Лицо казалось очень и очень болезненным: бледное до зелени и раздутое так, что от глаз остались лишь узкие щели. Всего его била частая дрожь.
— Что с тобой, Вадим? — растерянно спросил Дмитрий Васильевич.
Прыгунов не ответил. Он сидел теперь неподвижно, обхватив растрепанную голову руками и уставившись в пол.
— Ты что, пьешь беспробудно что ли?
Снова ответа не последовало.
— Да отвечай же! Болен ты или что с тобой, черт возьми?
— Я виноват, — наконец отрешенно проговорил Вадим Никитович. — Виноват, виноват…
— Виноват, виноват, — повторил генерал-губернатор, — в чем ты виноват, в чем?
— Я во всем виноват… Я… Она… Во всем…
Дмитрий Васильевич поднялся из-за стола, подошел к Прыгунову и резко тряхнул его за плечо. Вадим Никитович поднял голову, и тут же сильный запах алкоголя шибанул в нос генерал-губернатору. Гнев его вспыхнул с новой силой.
— Так! — закричал он так, что Прыгунов вздрогнул. — Даю ровно сутки, чтобы ты привел себя в порядок! Сутки — не больше, понял? Далее рапорт и все как положено! Завтра утром ты у меня! Понял — нет, я тебя спрашиваю?
— По… понял, — промямлил Прыгунов, блуждая глазами и точно не понимая, что от него требуется.
— Встать! — взревел Дмитрий Васильевич.
Прыгунов испуганно посмотрел на начальника и медленно поднялся.
— Вон отсюда! Савелий!
— Слушаю-с.
— Ты что, не видел, что он пьян, как скотина? Уведи его!
— Слушаю-с.
Савелий подошел и взял Прыгунова под руку:
— Пойдемте, Вадим Никитович, — сказал он и вывел спотыкающегося, боязливо оглядывающегося статского советника из канцелярии.
Утром следующего дня состоялись похороны Дарьи Лесковой.
Алексей Борисович Борин заранее пришел к подъезду клуба «Возрожденный Пегас», откуда в назначенный час был вынесен гроб с телом.
Прошла короткая церемония прощания. Все было очень хорошо организовано. Какие-то незнакомые писателю люди скорбно выступали, подносили живые цветы и венки, молчали и плакали. Затем гроб поместили на большой катафалк, заиграла музыка, и процессия, выстроившись, тронулась к центру города, где ожидался траурный митинг, посвященный памяти погибшей поэтессы.
В самом начале сопровождающих было немного, но с каждым шагом их становилось все больше и больше. Отовсюду подходили новые люди, и через некоторое время небольшая процессия обратилась в мощное многолюдное шествие, включающее как искренне скорбящих, так и просто любопытных и праздных жителей огромного города. Когда это шествие вылилось на Манежную площадь, люди разошлись почти по всей ее территории. Шестеро дюжих молодых парней перенесли гроб на высокий, доступный всеобщему взору постамент. Здесь же заранее подготовили трибуну, обшитую черной и голубой материей, и флагшток с приспущенным уже государственным флагом. На трибуну вышли одетые в темное люди. Смолкли звуки оркестра, шум в толпе прекратился, и траурный митинг начался.
Выступали писатели, критики, владельцы солидных издательств, представители городских властей. Говорили в основном об одном и том же: о безвременно ушедшем таланте, о несчастной судьбе, о злом роке, преследующем всех настоящих русских поэтов. Вспоминали Лермонтова, Пушкина, Гумилева, скорбели и соболезновали родным и близким покойной, и казалось невероятным и удивительным то, с каким чувственным усердием выражали свою любовь к погибшей поэтессе те, кто до этого не только ни разу не видел ее в глаза, но и не прочел ни строчки из ее бессмертных теперь творений. Увы, «чтобы тебя услышали, иногда нужно как минимум умереть…»
После речи восьмого или девятого оратора возле трибуны началась какая-то странная возня. Один маленький пожилой человек пытался подняться наверх и выступить, но стоявшие на ступеньках люди не пускали его. Этот человек что-то неразборчиво, неистово кричал и махал руками. Тут же снова заиграл оркестр, грянул фрагмент траурного марша и заглушил крики. Сцена эта вызвала заметное возмущение в толпе, но вот на трибуне появился человек в рясе с крестом — представитель церкви, и волнение несколько улеглось.
В тот момент, когда смолк оркестр, Алексей Борисович, как и все вокруг, увлеченный представившейся на площади неожиданной картиной, вдруг почувствовал позади себя близкое теплое дыхание, и какой-то сальный мужской голос сказал ему в самое ухо:
— А вы, господин писатель, не желаете выступить?
— Нет, — машинально ответил Алексей Борисович и обернулся.
Прямо за ним стоял высокого роста человек с густыми черными усами, в затемненных очках на длинном и тонком носу. Человек этот был писателю не знаком.
— А почему вы мне это предлагаете?
Усатый человек ничего не ответил, лишь пожал плечами и очень неестественно улыбнулся. Алексей Борисович снова глянул на трибуну. Там уже все утихло. Маленький крикун куда-то исчез. Священник громко и монотонно читал свою проповедь. После речи последнего послышалось ласкающее ухо церковное пение. Вскоре гроб снова был установлен на катафалк, и похоронная процессия двинулась вверх по Тверской.
У ворот Ваганьковского кладбища многолюдное шествие остановилось. Ограда кладбища была оцеплена полицейскими, и за гробом разрешили следовать лишь родным и близким покойной, коих, к величайшему удивлению писателя, оказалось немало. В памяти его пронесся тот короткий разговор с Дашей, когда она с мокрыми от слез глазами жаловалась на страх, тоску и одиночество, и он сам едва не заплакал от сильного чувства горечи, неожиданно переполнившего его душу. В это время к оцеплению подъехал роскошный черный автомобиль, из которого вышли четверо очень представительных, одетых в черное мужчин, среди которых Алексей Борисович узнал своего давнего друга, князя Григория Сокольского.
Полиция пропустила этих одетых в дорогие костюмы людей. Затем вход на кладбище снова перекрыли и собравшихся попросили разойтись.
Но люди вовсе не собирались расходиться. Было видно, что все они ждут продолжения странного спектакля, в который обратились похороны погибшей девушки. И вот представление началось.
В самом центре рассредоточенной толпы возвысился человек, тот самый, которого на Манежной площади не подпускали к трибуне. Он стоял на чьих-то могучих плечах, и несколько пар рук крепко держали его за ноги. Он что-то закричал, но вдруг поднявшийся рокот людских голосов заглушил его крики. В тот момент рядом с человеком над головами людей поднялась огромная туша — уже известная госпожа Борзыкина. Вид ее над толпой — здоровой, обрюзгшей, жирной бабы в толстых роговых очках — был настолько комичен, что некоторые люди, забыв о том, что находятся на похоронах, откровенно рассмеялись, а многие даже зааплодировали. Но вот госпожа Борзыкина подняла свою могучую руку, и шум голосов очень быстро затих.