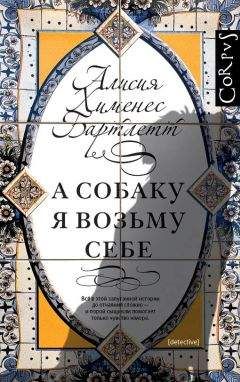А кучер оборачивается с козел, говорит насмешливо:
— Три дня уже ждут.
И опять все заливаются смехом.
— А что нового, Василий Петрович? — спрашивает Штейнбах агронома.
— Где? На заводе? Или на селе?
— И там, и тут.
— Искусства процветают. Все увлеклись музыкой.
— Как хорошо! — говорит Маня. — И есть таланты?
— Не по моей части, Марья Сергеевна, — усмехается агроном, показывая острые белые зубы. — Вы уж поговорите с регентом и капельмейстером, А насчет настроения? Не нравится оно мне.
— Что так? — подхватывает тетя.
— Вы еще незнакомы? — перебивает Штейнбах. — Знаменитая Надежда Петровна, а сейчас Анна Павловна, тетя моей жены.
Светским жестом приподняв шапку, агроном говорит:
— Очень рад. В схиме Василий Петрович Иконников. В миру Дмитрий Верхотурский.
— Ай, слышала, слышала о вас! — певуче ласково говорит «тетя», сверкая молодыми еще, черными, как вишня, глазами.
— Народ здесь инертный, созерцательный, суеверный. Это русские буддисты.
— Это поэты! — перебивает Маня. Василий Петрович пожимает плечами.
— Согласен. Романтичны. Но несознательны. Пожив с ними, можно понять, почему они потеряли независимость и, подобно полякам, умерли политически.
— Ну нет! — пылко перебивает Надежда Петровна. — Бы их не знаете. Они туги на подъем, правда! Но вы не считаетесь с темпераментом южан.
— Еще бы! Поджоги, грабежи и тому подобные анархические эксцессы. Это они могут. Но чтобы сознательно организоваться…
— Ради Бога, без политики! — говорит Маня. — Успеете поспорить! Вы взгляните, какой простор! Василий Петрович, вы лошадей знаете?
— Еще бы! Сам привез их из Москвы. Сам объездил. Ведь я бывший кавалерист, Марья Сергеевна.
— Теперь дорога ровная. Пустите их так, чтоб ветер свистел в ушах.
— А не боитесь? Лошади горячие.
— Ничего, мы сделаем репетицию, — смеется Маня.
— Да, Василий Петрович, мы ждем от вас большой услуги на днях, — серьезно говорит Штейнбах.
— Понял, Марк Александрович. Лидия Аркадьевна мне уже говорила в общих чертах.
Уже вечереет, когда они едут мимо Лихого Гая. Лошади медленно поднимаются в гору. Василий Петрович оборачивается с козел и говорит:
— Вот здесь весною стреляли в Нелидова.
Маня вся подалась вперед. Глаза расширены. Губы открыты.
— Но ведь он остался жив? — быстро перебивает Штейнбах.
— Уцелел случайно.
Маня закрывает глаза и тяжело опирается о спинку экипажа.
— Кто это Нелидов? — спрашивает Надежда Петровна.
— Здешний предводитель дворянства. Ждет назначения на пост губернатора. В министры метит, как слышно. Сильные связи. Народ его не любит. Интересный субъект, — кривя губы, улыбается Василий Петрович. — Крут и бесстрашен. Добром не кончит.
— Вот у вас тут дела какие! — весело подхватывает Надежда Петровна, внимательно гладя в глубь угрюмого леса.
Маня поднимает веки. И впервые чужими, удивленными глазами смотрит на эту дорогую ей женщину. Потом переводит взгляд на Марка. Он смущен. Избегает ее взгляда. Он это знал. И скрыл от нее. Она тоже глядит на корявые дубы. И понемногу она перестает слышать, что говорят кругом. И кажется ей, что лес шепчет:
«Здравствуй! Ты опять с нами. Помнишь, как по этому ущелью вы ехали вдвоем и падала ночь? Он обнял тебя здесь. Он взял тело и душу твою. И ты плакала».
Когда они едут мимо ставка, где утонул Ян, Штейнбах невольно снимает шляпу. Маня смотрит большими глазами на эти столетние ветлы, на неподвижную воду, на розовых гусей. А вон наверху — рощица, и четко рисуется на вечернем небе черный крест самоубийцы. Там ждал ее Ян, Там встречал ее Марк…
Коляски несутся по липовому проспекту. Сердце Мани бьется. Вся кровь прилила к нему. Она сама не ожидала такого глубокого волнения Вот она, чугунная решетка с гербами и ворота, куда втроем с Соней и дядюшкой они входили прекрасным летним днем. И она бездумно шла к этому великолепному дворцу, не подозревая, что там ждет ее судьба.
Она оглядывается и встречает взгляд мужа. Глубок и скорбен этот взгляд.
Старый Осип не изменился за эти годы. С почтительным поклоном снимает он шапку. Надежда Петровна быстро опускает вуаль. Возможно, что он ее не узнает. Но если и бояться кого-нибудь, так именно его.
Миновав больницу, школу и оранжерею, коляски лихо огибают цветник и останавливаются перед колоннами дома.
Штейнбах идет с женой впереди. Он крепко прижимает к себе ее руку и целует пальцы. Вот она, минута, которую он ждал так давно, о которой мечтал так страстно!
Лицо Мани бледно. Глаза глядят вдаль, на темные купы парка. Будет ли что-нибудь выше мгновений, пережитых ею там?
— Я не ждала ничего подобного, — говорит фрау Кеслер, входя в двусветный зал.
А Маня со Штейнбахом уже бегут в кабинет.
Он запирает дверь. Из золоченой рамы с тайной угрозой следят за ними глаза прекрасной еврейки. Знакомые глаза, без блеска и дна. Но сейчас Маня их не боится.
Она окидывает комнату долгим, влажным взглядом. Вот здесь, в тот вечер, когда она плясала полуодетая… О, жизнь! Прекрасная, царственная жизнь. Ты не повторяешься.
Она плачет на груди Штейнбаха.
Он ждал этой минуты. Этих слез он жаждал. За них все прощает он ей. Все страдания, что были. И будут.
На террасе накрыт стол. Звенят серебром, стучат чашками. Все собрались ужинать. Отчетливо доносится жизнерадостный голос Агаты, стеклянный смех Лики, заразительно веселая речь Надежды Петровны с ее хохляцким акцентом.
Скорей! Скорей.
Взявшись за руки, они украдкой бегут в парк. Они не сговаривались Все понятно без слов.
Заветная скамейка. А рядом могила Яна. Их первая встреча была здесь.
Она положила ему руки на плечи. Он безмолвие обнял ее. Они глядят друг другу в глаза. Глядят с тоской и отчаянием. И беззвучно проходят мимо них призраки их быстротечного счастья, забытых восторгов, нарушенных клятв, угасших порывов. Свежесть ушедшего утра. Тени идущего вечера.
Яркое, росистое утро. Весь дом еще спит, а Маня уже встала.
Проснулась, точно кто-то толкнул ее, и кинулась к окну. Она распахнула его, и свежесть волной влилась в комнату.
О, какой воздух! Ветки лип стучали на заре в раму, словно говорили: «Встань! Встань скорее…» Высоко разрослись густые кусты под окном, и даже дорожки не видно вдали. Она сама выбрала для себя эту угловую отдаленную комнату.
Скорей, скорей в парк! Пережить прошлое в одиночестве. Вспоминать и плакать. Какое наслаждение!
Она накидывает белую блузу и беззвучно скользит мимо запертых дверей. Сердце стучит, словно она идет на свидание.
Подойдя к могиле Яна, она опускается на колени. Мрамор надгробной плиты холодит ее лицо. Розы благоухают. Струится аромат гелиотропа. Сквозь кружево листвы плакучих берез блестят золотые буквы: «Я люблю того, кто строит Высшее над собой и так погибает».
Она не замечает слез, бегущих по ее щекам.
Потом она садится на скамью у могилы.
Шесть лет промчались с того утра, когда Ян сказал ей: «Я дам вам ключи счастья. Самое ценное в нас — наши страсти, наши мечты. Жалок тот, кто отрекается от них!»
Липы лепечут над головой. И она слышит в них его тихий голос, пронизанный страстью и верой. «Ваше тело, ваши чувства, ваша жизнь принадлежат вам одной. И вы властны сделать с ними что хотите. Но душу вашу не отдавайте любви!»
Обняв руками колени и сцепив пальцы, она глядит в высокое небо, сверкающее сквозь листву, и думает:
«Вот я пришла к тебе, Ян. После трудного и долгого пути вверх я вернулась на твою могилу. Я исполнила твой завет: я не отреклась от мечты… и душу свою освободила от любви. Я плачу над ней, как плачет любитель над бесценной вазой, разбившейся вдребезги. Но благославляю мои слезы. И страдания мои люблю…»
Липы шепчут над ее головою. Пятна светотени трепещут на песке дорожки. Она как бы слышит голос Яна: «Есть цель выше счастья, Маня. Ты стала свободной».
«Да, — думает она, — душа моя распрямилась, и печали забыты. Пусть побледнела Мечта, которой я пожертвовала счастьем! Зажигается другая. Она озарит всю жизнь до конца, когда бы он ни наступил, где бы он меня ни настиг. Прошлое прекрасно. И прекрасна любовь. Но то, что отвоевала я у жизни, мне дороже моего бреда, моего безумия, того, что люди зовут счастьем. Ты доволен мною, Ян?»
Липы шепчут что-то наверху.
Нежный, светлый, кроткий Ян. И мрачный, несокрушимый, не знающий слабостей Ксаверий, с его тонкими губами и глазами как сталь. Эти два образа слились для нее в одно. Теперь ей все ясно, весь этот мучительный разлад души, начавшийся в Париже три года назад и закончившийся ее уходом со сцены. И не потому ли такая радость в душе, что она поднимается все выше на высокую башню и ступени уже не дрожат под ней?