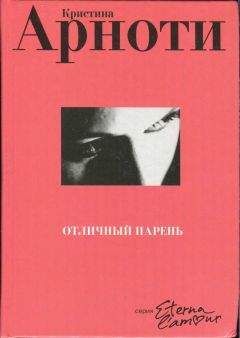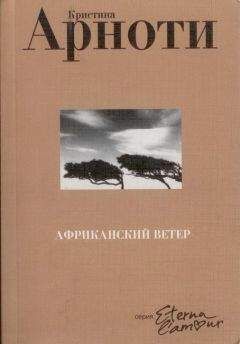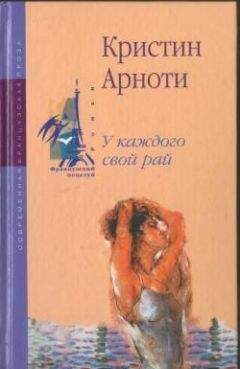Бродяга осматривается по сторонам. Ни одной живой души вокруг. Только двое белых… Набрались наркоты? Или нет?
С протянутой рукой он делает несколько шагов в их сторону. Почему бы и нет? Они такие высокие и такие белые. Ослепительно белые в свете, падающем от фонаря. Парочка белых.
— Пошел вон, — произносит белая девушка.
Чернокожий набрался наркоты под завязку. Ему трудно достать нож, привязанный к голени правой ноги. А может, все-таки нагнуться и выхватить нож? Нет. Не стоит.
— Ублюдки! — произносит он гнусавым голосом.
Он все еще тянет к ним руку; ему невдомек, что он только что оскорбил их.
— Пошел вон! — повторяет белая.
— Надо было найти потерянный батальон, — продолжает Стив. — На вертолете.
Чернокожий кивает головой, поворачивается к ним спиной и уходит. Качаясь.
— Я вылетел вместе с капралом. Мы сели в полной темноте. Кругом были одни только рисовые поля. Тепло и влажно. Быстро нашли лагерь. Они были под действием наркотиков. Все до одного. С автоматами наперевес. До их разума невозможно было достучаться.
«В окрестностях нет больше ни одного живого индейца, — заявил один из них. — Эй, — крикнул он, — зажгите свет! Надо им показать! Показать…»
Они спрятались позади нескольких джипов, развернутых фарами к рисовым полям. Они зажгли фары. Повсюду валялись трупы. На лицах застыли гримасы ужаса. Раскрытые рты, выкрученные руки и ноги. Одни трупы.
«Все индейцы рядами перед джипами. И… Та-та-та-та-та-та-та… та-та…» — сказал военный, по-прежнему с автоматом наперевес.
В ту же секунду посреди этого усеянного трупами поля вдруг кто-то вскочил на ноги. Не знаю, был ли то мужчина или женщина. Скорее всего, подросток. Вьетнамец, которого смерть прошла стороной. Ослепленный светом фар, с поднятыми вверх руками, он направился к нам.
И тогда набравшийся наркотиков военный нажал на спуск автомата. Подросток сделал еще несколько шагов вперед. Его лицо превратилось в кровавое мессиво. Он упал. Я бросился на того, кто стрелял, и принялся душить его. Меня привели к Буффало Биллу. Так звали капитана, хвалившегося тем, что он умел ладить с «индейцами».
«Если ты любишь индейцев…» — начал он. И не успел закончить. Я плюнул ему в лицо.
Дисциплинарный суд. Ко мне отнеслись более гуманно, чем я заслуживал, потому что я уже получил ранение. Затем я пережил настоящую драму. Я понял, что значит война. Кровавая бойня, устроенная палачами-наркоманами. Меня отправили домой. У меня перед глазами без конца стояла одна и та же картина: подросток, идущий на свет с поднятыми руками. Единственный выживший. И его убили. И я был причастен к этому убийству. В военной тюрьме, прежде чем попасть в госпиталь, надзиратели однажды раскрасили мне лоб. Они нарисовали на нем тот знак, что вытатуирован у тебя на шее. Знак мира… «Раз ты пацифист, — сказали мне они, — носи их отличительный знак».
Ромео:
«Человек, иди сюда. Я вижу, что ты беден.
Возьми: вот сорок дукатов, но дай мне дозу яда.
Которая растворится в венах так быстро,
Что здоровый мужчина свалится тотчас замертво».
Музыка. Музыка.
— Все, что мне остается, это умереть — произносит негромко Стив.
Анук поднимает голову.
У Стива спокойное лицо. И уже отрешенное.
— Я никогда не излечусь от того, что увидел.
— Почему ты не захотел остаться со мной в гостинице?
Анук с бесконечной нежностью смотрит на него.
— Меня звала ночь. Ночь в рисовых полях. Увидеть вновь эту сцену. И забыть ее навсегда. Невозможно.
— Почему ты отпустил меня? Из-за полицейских?
— Нет. Я не хотел, чтобы ты умерла.
Анук дрожит словно в лихорадке.
— Жить. Надо жить, — повторяет она как заклинание. — Как ты сказал, на земле. Подальше от городов. Я вылечу тебя. Теперь я никогда с тобой не расстанусь.
Капулетти:
«Жена моя, посмотри, как у нашей дочери кровь течет из раны…»
…Мокрая Курица ничего никогда не поймет.
— Я отвезу тебя в гостиницу, — говорит Стив с усталостью. — А я, я возвращаюсь к себе…
— В Нью-Йорк, это правда?
— Правда. Но сегодня я поеду в Аннаполис. Мне надо поговорить с матерью.
— Когда я тебя увижу? — спрашивает Анук.
— Завтра, если ты захочешь, если ты захочешь еще раз увидеться со мной. Завтра утром, у памятника Линкольну. Подумай.
— Я уже подумала, — говорит она. — Я вылечу тебя. Я буду ждать тебя. Я люблю тебя.
— Я больной человек, — говорит он. — Я ненавижу насилие. И в то же время я прибегаю к нему. Каждый раз мне хочется доказать самому себе, что я вылечился.
«Никогда не хвались тем, что ты — гуманист, — говорил старик. — Гуманист — это шлюха, которая торгует самым дорогим, что у нее есть, — своей культурой. (Затем с хитрой улыбкой.) И почему только я такой добропорядочный? (И немного времени спустя.) Мне хотелось бы быть гуманистом; у меня было бы меньше денег и больше друзей».
— Я все понимаю, — говорит Анук. — Все, все, все.
— Мне надо поговорить с матерью, — произносит Стив.
Он целует ее.
— Если ты будешь жить со мной, ты не будешь чувствовать себя в безопасности…
— Какое счастье, — говорит она, — прожить вместе последние минуты жизни!
Анук еще теснее прижимается к Стиву. Она боится расстаться с ним. Из кинотеатра начинают выходить зрители. Люди рассаживаются по своим машинам, включают фары, начинают маневрировать. Стоящая в обнимку влюбленная парочка мешает им развернуться.
— Ты никогда не сможешь жить со мной на заброшенной ферме…
— Да, — говорит Анук. — Я только о том и мечтаю. Лишь бы ты был рядом со мной.
Их слепит свет автомобильных фар. Они стоят, не шелохнувшись, не замечая ничего вокруг.
Автомобильная стоянка постепенно пустеет.
По освободившейся от машин площадке бродит чернокожий нищий.
Анук говорит:
— Навсегда. Завтра.
Стив еще крепче прижимает ее к себе.
Вялое пробуждение в номере гостиницы, вовремя доставленный завтрак в полном соответствии со сделанным накануне заказом. Анук размашистым почерком подписывает счет; затем дважды подчеркивает свою фамилию как уведомление.
Анук с задумчивым видом пьет кофе. У нее много материальных и личных проблем. Если бы она ездила на «роллс-ройсе» тридцать два месяца и еще несколько дней, то получила бы завещанные дедом тридцать девять миллионов старых франков…
Почти сорок тысяч долларов. На эти деньги, возможно, ей удалось бы купить скромную ферму на Среднем Западе. И дед уже давно лежит в могиле. Если бы он был жив, она смогла бы объясниться с ним, рассказать ему о том, что нашла единственного на свете человека, которого будет любить до конца своих дней. Старик понял бы ее. «Отправляйся к своему любимому на Средний Запад. Через несколько лет совместной жизни с ним ты убедишься в том, что твой герой совсем не тот человек, которого ты полюбила с первого взгляда. Поздравляю тебя, внученька, ты влюбилась. Я знаю, что твои чувства искренние. Твои глаза сияют от радости… Люби и будь счастлива!»
Затем дед обязательно бы сказал, понизив голос: «Для любви надо иметь мужество, когда есть деньги, и быть неисправимым романтиком, если денег нет. Внученька, я никогда не был романтиком в молодости, а когда разбогател, то у меня уже появилась лысина, была слегка впалая грудь и худоба, я страдал астмой; я сделал для себя открытие, что не стану ни выше ростом, ни обладателем императорского профиля; я понял, что без денег мне нельзя рассчитывать на чью-либо благосклонность. И тогда с помощью денег я ударился во все тяжкие. И получал от этого огромное удовольствие. Знаешь, внученька, о чем я сожалею? Чуть-чуть, но все же? Что никогда не обманывался на свой счет. Какую радость я испытал бы, если бы смог поверить в то, что высок ростом, красив, сексуально привлекателен и умен! И вот такого удовольствия я был лишен!»
«Дед, — думает она, — дед, почему ты ушел? Ты смог бы помочь мне… Дед, я полюбила. Со вчерашнего вечера я знаю, что такое любовь. Дед…»
Она берет с тумбочки, исполняющей роль небольшого письменного стола, лист бумаги для писем; садится и недолго размышляет. Она не помнит, какое сегодня число. Ей приходится, как в детстве, загибать пальцы, чтобы вычислить дату. Она пишет: «Дорогой Роберт…» И тут же смятый листок летит в корзину для бумаг; нелепо называть его «дорогой». Просто «Роберт»? Нет! Второй листок отправлен в корзину вслед за первым. «Роберт» — слишком сухо. К счастью, остается еще один листок.
«Прости меня, — пишет она, — но наш брак исчерпал себя. Вчера я встретила…»
Вчера, когда это было? Какого числа?.. 22, 23, 24-го?
«…вчера, 24 июня…»
«Какая глупость, не надо было указывать дату…» Зачеркнуто, 24-е число. «…вчера, одного американца, которого люблю. С прошлого вечера».
Чтобы он не думал, что это какое-то старое знакомство.