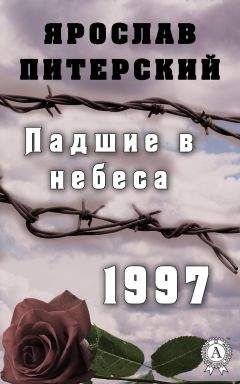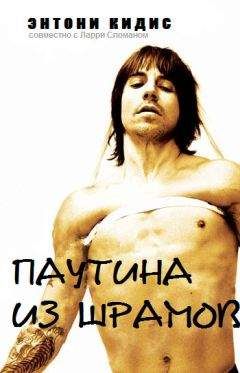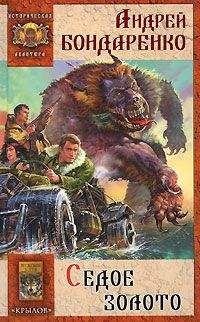Ознакомительная версия.
«Мне ничего не надо! Мне ничего не надо! Лучше пусть будет все как будет! Пусть лучше тюрьма и одиночество! Жизнь без Лидии все равно бессмысленна!» – Вилор сжал зубы, так, что как показалось ему, был слышан скрип костей во рту.
– Говори! Это ты, ты, убил Скрябину! Говори! – звучит голос, как из преисподней.
Секунды – это вечность! Секунды – это пропасть!
– Признавайся! Признавайся!..
Но!
Все закончилось неожиданно.
От напряжения устал и Мухин. Он, был красный как рак и тяжело дышал, опер плюнул и поднялся, он не мог больше сидеть на корточках и вращать карандаш между пальцев у Вилора. Обливаясь потом, милиционер устало выдохнул, прошел и сел на свое рабочее место за столом.
Трясущимися руками, он достал из пачки сигарету и низким противным голосом сказал:
– Сука… это как секс! Такое напряжение! – Мухин щелкнул зажигалкой и, выпустив дым из легких, облегченно буркнул. – Надо же! Я сам с тобой тут мучаюсь! Обычно на карандаше больше пяти минут никто не держался, а я тебе это грифель кручу уже почти полчаса!
Вилор сидел, низко склонив голову. Он не хотел слушать этого мерзкого человека. Минуты покоя для него сейчас казались блаженством. Щукин не чувствовал своих пальцев на правой руке, он попытался ими пошевелить, но не смог.
«Когда, в какое мгновение, человек становится мучителем, палачом, извергом? Как он становиться им? Осознанно? Неужели совесть, или как там его, внутренний голос не протестует. И не вопит этому человеку: ты будешь проклят, ты будешь мразью, ты сам себя будешь ненавидеть! А может внутренний голос наоборот подталкивает человека к насилию над другими? Что это? Как это? Почему одни осознанно хотят быть мучителями? Почему? Ведь в детстве они все боялись уколов, плакали, когда набивали себе шишки и ссадины! Но одни потом понимали, что человеческая боль, да и вообще не только человеческая это мерзко и страшно, а другие наоборот хотели завладеть этой болью, как оружием и применять ее к другим людям, чтобы властвовать над ними! Как человечество разделилось на эти категории? Почему это произошло? Кому это нужно? Вот этот ублюдок Мухин, наверняка у него есть сын или дочь, и что? Но, готов ли он видеть, как мучают его детей? Он готов понять того человека, который бы, вот так, крутил карандаш между детских пальчиков? Вряд ли, он готов причинять боль только незнакомым его людям, а родным и близким… странно» – Вилор вдруг понял, что думает как-то равнодушно, словно он смотрел на все это происходящее в кабинете Мухина со стороны.
– А ты упрямый! Надо же не ожидал. Теперь и не знаю, что с тобой делать? Колоть надо, а сил нет… – слова Мухина звучали словно похвальба.
Но это была какая-то извращенная похвальба, палач удивлялся мужеством и терпением своей жертвы.
– Слушай, Щукин, да признайся ты, на хрен тебе все это? Все равно тебя посадят! Все рано ты в лагерь поедешь! На хрен тебе тут париться? Кстати напишешь чистуху, скостят года два, три. Получишь двенадцать, выйдешь через восемь по удо, если будешь себя хорошо вести. Да и посидеть для тебя как я думаю не так уж и плохо! Будет куча времени для творчества! Какие стихи там можешь написать?! А какие персонажи встретить! Щукин, хочешь стихи хорошие написать. Пиши чистуху! – Мухин уговаривал Вилора, словно ребенок уговаривает отца, купить ему велосипед.
Щукин поднял глаза и с призрением посмотрел на своего мучителя. Он не испытывал к нему ненависти, лишь какое-то чувство жалости и брезгливости, даже может быть немного сострадания, ведь какова его незавидная доля.
– А сам-то ты, что не сядешь? Посидел бы лет пять! Изучил бы психологию преступников получше, – буркнул Щукин.
– Шутишь?! А зря! Я тебе дело предлагаю, честно говоря, мне тебя не очень-то и охота прессовать. А про стихи я тебе всерьез говорю, – устало ухмыльнулся Мухин.
Он вытирал пот со лба носовым платком.
«Люди строят, сеют, пашут, созидают, их пот трудовой и праведный, а этот, этот чего вспотел? От зла и подлости? От насилия и жестокости?» – зло подумал Вилор.
– Ты за стихи не переживай. Они найдут выход в любом положении. Не веришь?! Пока мне ты тут пальцы ломал, родилось несколько строк, в твой адрес…
– Да ну! – обомлел Мухин. – Врешь,… не может человек, когда его прессуют еще и стишки рифмовать…
– Дурак ты Мухин и жизнь у тебя дурацкая… если просто так людям верить не умеешь.
– Опять?!!! – разозлился опер. – Карандаш захотел? А?!!!.. Понял,… ты просто зубы заговариваешь, прочитай стишки, если правда…
Вилор с призрением посмотрел на опера и брезгливо сказал:
– Ты, что стихи любишь? Не видно по тебе.
Мухин сидел и молчал. Он попыхивал сигаретой. Скорее всего, у него в эту секунду просто не было сил спорить со Щукиным.
А тот продолжил:
– Но коль просишь стихов, слушай, можешь потом своим коллегам костоломам хвастать, мол, мучил тут невинного человека, а он мне стихи написал. В честь меня!
По непрошенной причине
Звон в руках и в пальцах хруст,
И кагор в его графине
Словно кровь тяжел и густ.
А луна ползет в окошко,
Занавесками шурша,
Искривленная дорожка,
Истомленная душа.
Страшно, если нету страха
Перед Богом. Знает он.
Жуток душный сон монаха,
Полуобморочный сон.
Несколько секунд Мухин продолжал молчать, затем, словно переваривая слова, он нервно затушил сигарету и посмотрел на Щукина. Вилор поморщился, пальцы ломило, руки затекли, он отвернулся, стараясь не показывать Мухину свои гримасы боли.
– Слушай Щукин, ты впрямь сейчас это на ваял?
Но Вилор лишь тяжело вздохнул.
– Блин, конечно прикольно¸ но уж больно все мудрено. Какой графин? Какой кагор? – спрашивал милиционер.
– Это образ, понимаешь,… ты мне, как монах привиделся, монах инквизиции, сидишь тут один в своей келье, а что бы, не было скучно, мучаешь еретиков, как тебе кажется! А в графине у тебя вино, красное как кровь, а может быть это и есть кровь, а ты в сомнениях, ты хочешь чего-то бояться, но не боишься. Потому как, хоть и монах, а в Бога-то ты не веришь, бедный человек…
Мухин задумался. Он встал и медленно подошел к окну, высматривая, что-то за стеклом, милиционер тихо спросил:
– А ты, Щукин, думаешь, Бог есть?
Вилор тихо застонал, но скорчившись от боли, все же ответил:
– Не знаю, наверное,… Хотя если смотреть на тебя, то можно стать атеистом.
– Ты, о чем это? – грубо переспросил Мухин.
Вилор тяжело дышал, ему стало совсем плохо от боли. Он сморщился и выдавил из себя:
– Или ты расстегиваешь мне руки, или я вообще с тобой говорить не буду. Молчать буду и все!
Мухин, внимательно посмотрел на корчившегося, на стуле арестанта и ехидно ухмыльнувшись, встал из-за стола и, подойдя к Щукину, расстегнул наручники. Стальными браслеты он потряс словно испанский танцор кастаньетами:
Ознакомительная версия.