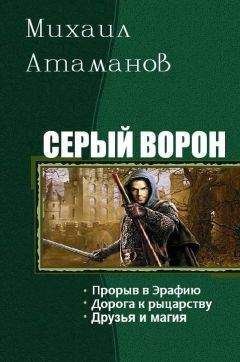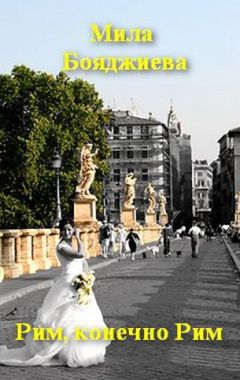— Да Бог с тобой, милая… — Поспешно убрала руку Карповна. — Жара-то нет, да вот улыбка твоя впервые видится… Ох, чую, Настька, чтой-то не так, но что?
…Настя сидела у больной, поглядывая на круглые часы, стоящие на тумбочке. В полумраке спрятанной в матовый рожок лампочки лицо Анастасии Барковской напоминало маску туземного идола — багровые вздутия расчерчены мазками зеленки, кое-где на влажных пузырях присохла корочка, а губы совсем посинели от специально заваренного с крахмалом и синькой питья. Она не шевелилась и Настя считала минуты, ожидая почему-то полуночи.
В двенадцать тяжелые веки дрогнули, на сиделку посмотрели мрачные, удивленные глаза.
— Выходит, не взяла тебя напасть — не по зубам ей пришлась. Хорошо, если так. Я вот тоже смелой себя считала — на самолете в небо поднималась, под воду ныряла, думала — все нипочем… — руки женщины судорожно сжали одеяло. — Знала б ты, как умирать не хочется… Я жить любила. Любить любила. Рисковать. выигрывать… И мстить! Ох, как сладка, должно быть, месть! Теперь это сделаешь за меня ты.
— Подхожу, значит, в доверенные лица?
— Больше даже, чем я сама подходила. Будь на моем месте ты, никто бы не умирал здесь от таинственной хвори, пожирающей внутренности… Меня отравили, Анастасия. Отравил тот, кому я доверяла более всех. Доверяла свою жизнь, свое сердце, дело…
Не двинувшись с места, не шелохнувшись, Настя слушала удивительную историю. Она узнала, как дочь наложившего на себя руки фальшивомонетчика оказалась на родине матери, как, оставшись сиротой, переселилась с верным слугой Степаном в Париж и бедствовала, отчаявшись честно заработать себе на хлеб.
— Я была веселой и очень хорошенькой. Все мужчины считали меня легкой добычей. Но никто, никто не догадывался, как горда и непреклонна душа Анастасии Барковской… Привязанностью мужчин я не дорожила, их было много, очень много — самых отборных, циничных, властных самцов… Я разбогатела вмиг, получив весточку от давно погибшего отца — горсть бриллиантов огромной ценности… Меня признали одной из самых модных и красивых женщин Парижа… Ох, и покутила я, погуляла!.. Будто долгую жизнь мотыльком порхала, а всего-то — пять лет… Пять лет и прожила…
В позапрошлый сочельник на балу в Опере я познакомилась с ним. Мы были в масках — я одета русской боярыней, он — стрелецким атаманом… Ладный. статный, грациозный, как принц, и в прорезях бархатной алой маски глаза огнем горят, как у Сатаны… Только я его сразу узнала. О такой стати и таких движениях, как у русского танцовщика Альберта Орловского, никто и мечтать не мог. Мы еще детьми вот так на новогоднем маскараде танцевали — дочь помещика Барковского и сын балерины, учившей хозяйскую дочь танцам. И вот не пропал мальчишка, поднялся — стал лучшим из лучших. Не было ему равных ни на сцене, ни в любви… ни в подлости… Только поздно я поняла это, дура самоуверенная. — Больная горько усмехнулась, исказив гримасой неподвижную маску. — Боль, Анастасия, адская. Не приведи Господь никому такой изведать. Я б уже на тот свет отправилась, да с тобой решить все нужно. Ты, я думаю, политическими вопросами не интересуешься? Да не важно это — и мне было совсем не важно, — немец ли, англичанин на чужую землю зарится, какое государство и как свои амбиции отстаивает. Но свел меня Альберт с одним человеком, которого называл просто Шарлем. Ума и силы воли необыкновенной — сед. как лунь, а сила — кочергу в штопор заворачивает… Вот он-то, Шарль де Костенжак, объяснил мне, что я — гражданка Французской республики и по сердцу — россиянка, а следовательно, могу на благо родных земель славно послужить. Во французской разведке, которая в союзе с российской против немцев тайную борьбу ведет… Эх, одно счастье, что не будет меня на свете, когда большая война начнется.
— Какая война?
— Страшная, всемирная. В следующем году грянет. — Больная даже слегка приподнялась на локтях, но, застонав, упала на подушки. Настя тут же поспешила с нашатырем, который держала наготове.
— Внимательно слушай. Все собирай по крошке — потом разберешь. У меня мысли путаются, а сказать много надо…
У Альберта моего перстень — серебряная печатка, а в нем — тот самый яд, от которого я умираю… Только не у него одного… На секретном заводе в Германии это зелье изготовляют сейчас смертники, которых сжигают по ночам в огромных печах. А наутро приводят новых. Их вербуют из бедноты в Турции, Греции, будто для работы на обычной шахте. Этим и занимался Альберт Орловский, путешествуя со мной по свету.
— Как? Он разве немец и войны хочет? Как же этот Шарль ему верил? — Насте казалось, что рассудок больной уже помутился. Но та черпала новые силы, вдохновляясь надеждой, что есть у нее преемница, берущая карающий меч в свои помеченные особыми знаками руки.
— Верно соображаешь, девочка… Точно схватываешь. И Шарль Альберту верил, и я. Это называется — двойной агент, человек, который сразу двум хозяевам служит. Вызнает у французов секреты и продает немцам. А французы его своим считают… И уважают очень — за бесстрашие, хитрость, ловкость. За то, что нет для него преград, ни в любовных делах, ни в кровавых…
Стала я сподвижницей Шарля де Костенжака — агентом французской тайной службы, и отправилась со своим милым другом на край света — в путешествие по восточным странам. Альберт доложил французам, что немцы готовят страшное бактериологическое оружие, с которым думают победить в мировой войне и получил задание вызнать про секретные заводы.
Мы путешествовали вместе, как особы королевской крови — нас принимали шейхи и султаны, мы жили во дворцах и великолепных отелях, пересекали океаны в роскошных каютах трансатлантических лайнеров вроде недавно погибшего «Титаника»… Альберт был неуемен в любви, да и я словно осатанела. Может, у него и для этого особое снадобье было…
…Только следовали за нами повсюду трое его сподручных. Держались на расстоянии, словно и не знакомы вовсе. А на самом деле — тайно охраняли и выполняли разные поручения Орловского. С ними я и застала любимого в спальне нашего люкса на корабле «Голубая лента»!
— Как с ними? Вы узнали, что Орловский служит немцам? Это были германские агенты?
— Ах, девочка… И объяснить трудно. Да и не надо. Сама как-нибудь поймешь. Прелюбодействовали они, как в содомском грехе обозначено… А про политику я тогда и не думала — чуть сердце от стыда и боли не разорвалось. Ведь любила его, верила…
В Греции мы вышли на берег в Салониках. Я совсем не в себе, душа от гнева горит, хоть в воду бросайся. А он по развалинам древним скачет, словно юный бог — кудри длинные ветром взлохмачены, загар на солнце золотом переливается и глаза такие дерзкие, победные, жадностью к жизни светятся.