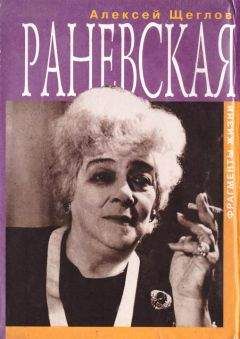Ознакомительная версия.
Все презренные тайны Эроп ушли под воду.
Как и не было их.
Ясно, люди сочинят другие. Они не могут без заговоров, без шепотка на ушко.
Вольно ж им жить в ужасе и в ненависти.
Она задумчиво, поеживаясь голыми плечами на ветру, следила, как с легким бульком черная шкатулка покачнулась, нырнула, затонула. Корабль пошел на дно. Моряки не выплывут. Никому не спастись. И черт с ними. Это было плохое судно. И разбойники на нем.
Мадлен повернулась, чтобы бежать обратно во дворец.
Прямо перед ней стоял человек. Широкая тарелка лица. Могучие мускулы, бугрящиеся под курткой. Угрюмый, протыкающий насквозь взгляд.
Генерал Хлыбов!
Она взмахнула руками и обняла его крепко. Повисла на его шее.
— Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо…
Он тоже обнимал ее, молчал, улыбался. Он понимал, за что она его благодарит.
Он показал руками на свои уши: ничего мол, не слышу, оглох совсем от колоколов.
— Когда едешь в Рус? — спросил только, когда Мадлен расцеловала его в обе заросших, небритых щеки.
— Скоро, — ответила она, сияя глазами. — Скоро, Хлыбов. Недолго уже осталось мучиться на чужбине. Лучше смерть на родине, чем жизнь среди чужаков.
Он понял по губам. Кивнул.
— Свои тоже могут быть чужими, — сказал он тяжело.
И она поняла, что он восчувствовал это на собственной шкуре.
Кто затмил ей память?.. Вагоны… теплушки… выстрелы… чужая, гортанная речь, после ставшая родной, понятной… пук соломы на вагонном трясущемся полу… плетки… ремни… битье… и тьма, тьма. Мать — и тьма. Была Мать, стала тьма, безвидна и пуста. И Дух Божий не носился над чужими водами.
Ах, какая черная вода в пруду, Мадлен. Никто никогда не узнает, какая подлая была старушка Эроп.
— Свет в шоке, — мрачно улыбаясь, сказал генерал-звонарь. — Они все говорят, что вот, дескать, пляшет нахалка, шлюшка с Гранд-Катрин, ишь, мол, знаменитость. Наглости ее, болтают, нет предела. Эх ты их и уязвила. Как это ты так смогла? У тебя дар. Ты одарена красотой и смелостью.
— Я шучу над ними.
— Верно. Нам осталось одно в этой гадкой колбасной Эроп: смех. Громкий, во все горло, смех. Смех над ними.
— Так бежим посмеемся!
Мадлен и Хлыбов взялись за руки и побежали.
Они вбежали в гущу Карнавала — и пляшущая толпа обняла их, затормошила, затрясла, растащила, ввергла в новые воронки танца, кокетства, страшной игры. Мадлен удалось напоследок расцеловать генерала еще раз в щетинистую щеку, изборожденную морщинами и шрамами. Крепко же тебя били в Рус, рубили. А любили ли?..
«Любили, — сказали ей его глубоко сидящие, горящие глаза. — У меня в Рус была девушка, как две капли воды похожая на тебя. Может, это ты и была. Я забыл. Я не помню, как звали ее. Так же, как и тебя. Мария… Маргарита…»
Он затряс головой. Он не помнил ничего. Он сморщился и заплакал, и толпа, безжалостно хохоча, разорвала их, как тюлевую маску.
Мадлен озиралась. Вскидывала руки. Выбрасывала ногу в дерзком па. Ее обхватил за талию чернобурый медведь, цыган сунул ей в руки бубен: пляши! Вот так пляска! Так же пляшут у них в Рус — с цыганами, с черным медведем, на синем снегу, на искристом льду! Ну, сейчас она им покажет!
Ей неважно было, зверь настоящий или это мужик, переодетый на Карнавале в медведя.
Она ударила в бубен, и медведь заплясал, затопал, замахал лапами, завертел тяжелой, как чугунок, головй туда-сюда, туда-сюда. Подпрыгнул. Заревел.
Мадлен била в бубен. Медведь ревел. Дамы и кавалеры заткнули уши.
— О, увеселение Рус!.. Как изысканно!.. Какая прелесть!.. Бездна фантазии!.. В низовьях Роны, знаете ли, водили обезьян, заставляя их плясать… савояры заставляли прыгать сурков в клетке… а тут, видите ли, огромный зверь, медведь… это отлично придумано!.. Пляши, пляши, золотая девушка!.. Мы заплатим тебе золотыми монетами…
В Мадлен и медведя полетели монеты, блестя в свете люстры. Мадлен без устали била в бубен, кувыркалась, прошлась колесом, села на шпагат. Красная Мельница?! А может… может, это те ряженые, на той широкой снежной площади… на Святках…
Медведь лапой чуть сдвинул маску.
Мадлен увидела блеснувший человечий глаз. Лысую гладкую голову.
Человек-яйцо. Вот он.
У нее похолодела покрытая потом спина, но она не выпустила бубен из руки. Продолжала бить в него, ударять, вызванивать бешеный, горячий, страстно бьющийся ритм. Так бьется сердце, Мадлен. Твое сердце.
Медведь наклонил морду к Мадлен.
Публика услышала рев. Засвистела, захлопала.
Мадлен — вслед за ревом — четкий шепот:
— Мы все здесь. Мы следим за тобой. Один неверный шаг — и твой муж…
Мадлен забила в бубен неистово.
Ее лицо оказалось вровень с медвежьей мордой.
— Отстаньте от меня, — проговорила она тихо и властно. — Я все знаю. Вы не посмеете нас тронуть. Ни меня, ни его. До тех пор, пока я не отдам вам то, что вы хотите.
Ей надо оттянуть время.
Тяни, Мадлен, тяни. Изо всех сил. Сколько сможешь.
Они же никогда не увидят, как ты дрожишь. Как все в тебе, женщине, трепещет и бьется. Они увидят только твою бестрепетную, веселую улыбку в пол-лица, сверкающие зубы, сыплющие искры яркие глаза.
— Так отдай.
— Еще рано.
— Не наплясалась, что ли?
— Догадливый.
Мадлен ударила в бубен в последний раз и бросила его в толпу так же, как бросала шкатулку в пруд. Утки, разлетайтесь, не то я попаду вам по голове. Прячьте клювы под крыло. Гогочите. Плывите. А я полечу!
Она полетела по залу, и навстречу ей полетел он, родной.
Единственный.
Князь подхватил ее в танце, вальсируя, — о этот вальс, их вечный вальс! — и они полетели дальше по залу вдвоем, по пространству, по времени, которое преодолели любовью и верой, по воздуху, по горю и счастью, и он, танцуя, целовал эти ямочки на щеках, эти сияющие, полные слез счастья глаза, эти губы, эти жемчужные зубы, этот вспотевший горячий лоб, эту гибкую лебединую шею, прижимал эту страстно дышащую грудь к своей груди, и вся она была — желание и любовь, вся — красота и упоение, и она цвела меж его стиснувшими ее крепкими руками, как огромный цветок, как розовый пион, как белый георгин, как золотая хризантема… хризантема! — зачем так волнует ее, бередит ей душу эта махровая, сказочная китайская птица, эта Снежная Царица цветов?!.. — зловещая тайна есть в ней… — а он все обнимает ее, все сильнее, все крепче, все таинственней, все любовней и все нестерпимей, вот она уже чувствует под платьем его тело, вот слышит, как бьется, не в силах совладать со страстью, его сердце, и, о чудо, она тоже будто обнажена перед ним, хоть ее и облекают сверкающие тряпки, они оба друг с другом, как голые, как в любви, как на разметанном в исступлении соединенья ложе, — а это танец, это их вечный танец, это их вечный вальс, ну, танцуй же со мной, ну, обнимай же меня так, вот так, — Мадлен чувствовала, как горячее любимое тело напряглось, как тугой и острый жезл мужа бился, ища врата жены, Золотые Ворота, из которых не было выхода и возврата, — и он в танце целовал ее грудь, и она закидывала руки ему за голову, за шею, и выгибалась, и откидывалась назад, и музыка гремела, а вальс крутил их метелью, вьюгой, — о моя метель, люблю тебя, и я тебя, буран мой, — и общая дрожь била их, и стон страсти и счастья одновременно вылетел из губ их, растаяв в накатившей, белопенной волне, сотрясшей их до основанья, до тайн существа музыки.
Ознакомительная версия.