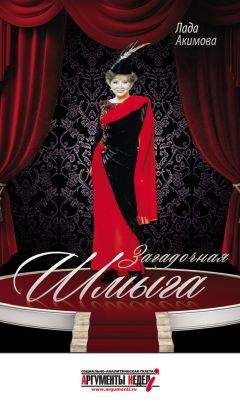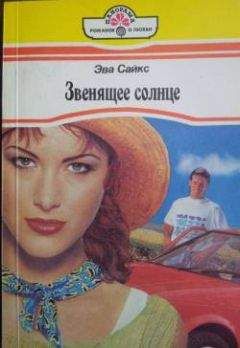Мы разложили на столе бумаги и попытались их рассортировать.
– Вот тут только про автомобили, – разглядывал листки Евтушенко. – Дата, номер кузова, город. Ташкент, Душанбе, опять Ташкент. За несколько предыдущих лет. А вот посмотри! Позавчерашнее число, город Горький и фамилия нашей преподавательницы: Глебова.
Я выхватил листок. В памяти всплыл подслушанный разговор Калинина с неведомым Петром Кирилловичем.
– Я, кажется, понимаю, в чем дело. Это список «левых» «Волг», которые Калинин сбыл в Среднюю Азию. Это была его доля за прикрытие заводских махинаторов. Смотри, тут данные за последние три года. Ровно столько Воробьев работает с Калининым.
– Получается, Воробьев собирал на шефа компромат?
– Да еще какой! Посмотри, на остальных листах адреса квартир, дачные участки. Наверняка это то, что, как и «Волги», распределялось Калининым в обход закона. Немало набралось. Эти бумаги для Калинина равносильны смерти.
– Калинин об этом узнал и… устранил опасного свидетеля. А мы ему в этом помогли, – задумчиво произнес Сашка. – Только как отравленный коньяк оказался у Воробьева? Может, эта девушка, Евгения, сообщница?
– Нет! – возмутился я. – Калинин сам признался, что перед отлетом отдал бутылку Воробьеву. Якобы она случайно у него оказалась и он забыл ее выложить.
– А у Калинина прекрасное алиби. Воробьев погибает, когда он находится в Москве. Только, получается, что он рисковал жизнью Евгении. Если бы она выпила, то… А ведь Калинин ее… – Сашка осекся на полуслове, искоса взглянул на меня, и закончил фразу очень тихо: – Вроде как любит.
– Женя не пьет крепкие напитки. И Калинин не предполагал, что Воробьев вечером окажется на квартире Жени.
– Кстати, а почему он там был? Время было позднее. Может, – Сашка отвел глаза, – красивая женщина, молодой мужчина и… все такое.
– Ты… хочешь сказать, – я произносил слова медленно, с расстановкой. В голове вертелась картина: пиджак на кровати, небрежно расстегнутая рубашка и обольстительная Женя в легкомысленном халатике. Я сглотнул подступивший к горлу ком и закончил фразу: – Что Русинова была любовницей Воробьева?
– Да, – отрывисто выдохнул Сашка.
От обиды закололо в глазах. Я нахмурился, чтобы не выступили слезы. Этого оказалось недостаточно. Пальцы сдавили уголки глаз у переносицы, губы прошептали:
– Любовница Калинина. Любовница Воробьева. Со мной целовалась. Господи! Да что же это за женщина?
– Калинина она считала своим мужем. Гражданским, – друг тактично пытался меня утешить.
– А у него своя законная семья! – Нестерпимая горечь жгла изнутри. – Недаром по статистике замужних женщин у нас больше, чем женатых мужчин.
Мы помолчали.
– Что будем делать с бумагами? – спросил Евтушенко.
– Я не хочу ее уступать.
– Ты про кого?
– Про Женю.
– Елки-палки! Кто про что, а вшивый про баню! Я тебя вот про этот портфель спрашиваю! Если его найдут у нас, как мы это объясним? И светлую «Волгу» уже ищут. Милиция на уши поставлена. Ты хоть это помнишь?
– Помню. – Мною овладевало упрямство. – Бумаги пока останутся у меня. Ты не беспокойся, я все возьму на себя, в случае чего.
– Да не в этом дело! Раз вляпались, надо поступать разумно. Я к этому призываю.
– Хорошо. От портфеля я избавлюсь. А бумаги пока оставлю. Есть у меня план…
Я рассказал Сашке о том, что замыслил. Он слушал молча, не прерывал. В его глазах я пытался найти понимание, но он смотрел на меня с сочувствием здорового человека к безнадежно больному.
– Ты любишь ее так сильно? – только и спросил он в конце.
– Что значит сильно? Я просто ее люблю! Не сильно и не слабо. Я только сейчас узнал, что такое любовь. Те переживания, которые у меня были до этого, – ерунда. У любви нет шкалы – эта больше, эта меньше. Любовь – это предел, понимаешь? Выше – некуда! И ниже нельзя. Иначе это не любовь.
– Ты прости, но… Она встречалась одновременно с двумя мужчинами… И тебе, как я понял, глазки строила. Зачем тебе такая?
Я отвернулся:
– Я не могу без нее… Не могу! А про Воробьева – это только предположение.
Рука друга легла на мое плечо:
– А ты спроси у своей Жени напрямую.
– Она не моя… пока.
– Спроси про Воробьева.
– Его уже нет в живых.
– А это не важно! Еще три дня назад она отдавалась двоим. Она обманывала каждого!
– Нет!
– А ты спроси.
– И спрошу! – В раздражении я скинул руку Евтушенко.
– Спроси, спроси, – подзуживал Сашка.
– Да что ты пристал! Прямо сейчас ей позвоню, если хочешь.
Я сбежал вниз в холл общежития. Франц Оттович, заметив мой очумевший вид, ни слова не говоря, придвинул телефонный аппарат. Гудки продолжались долго, но я готов был ждать до утра.
– Слушаю… – наконец раздался тихий голос Жени, и мне сразу стало легче.
– Женя…
– Это ты, – вздохнула она. – Я.
– Тиша, ты на часы смотришь?
– Нет.
– Два часа десять минут, к твоему сведению.
– Жень, я хочу спросить.
– О чем?
– К тебе Воробьев в тот вечер зачем приходил?
– И ты звонишь среди ночи только для этого?
– Да. Мне это важно.
– Зачем?
– Я хочу тебя понять.
– Тихон, это моя личная жизнь.
– Твоя личная жизнь? Значит, Сашка говорил правду?
– Твой приятель? Ты уже раструбил всем и о сегодняшнем вечере?
– Нет, что ты!
– А что он говорил про Андрея?
– Что ты и Андрей… Что вы…
– Ну, договаривай.
– Что вы любовники.
Я слышал, как несколько раз мягко скрипнул матрац. Я помнил этот звук. Женя сменила позу. Видимо, она села, подмяв спиной подушку. Я четко представлял ее. Вот она левой рукой отводит волосы за плечо, ночник оттеняет черные завитки на белой подушке, правая рука вновь придвигает трубку к пухлым губам:
– Тебе так нужно это знать? – Да.
Мне показалось, что прошла вечность, пока она ответила:
– Твой приятель был прав.
Где-то разразился страшный гром и полыхнула молния. Но никто, кроме меня, этого не заметил. Удар молнии предназначался только моему сердцу.
– Что ты молчишь? – спросила трубка голосом самого любимого человека на земле.
Я онемел. Удар молнии начисто лишил меня голоса.
– Ты это хотел услышать? – громко переспросила трубка. В груди под самым горлом что-то задрожало. Дыхание рваными комками стало вырываться из меня. Это походило на нечто среднее между невнятными рыданиями и отрывистым смехом. Я не мог позволить себе рыдать. Я заставил себя смеяться. Звуки, шедшие из моего горла, становились все громче.
– Что с тобой? Ты что… смеешься? – испуганно вопрошала трубка.
«Да, я смеюсь!» – хотел крикнуть я, но не мог. Грудь спазматически дергалась, и каждому колебанию я стремился придать форму смеха. Мне хорошо! Я смеюсь! Я смеюсь от счастья! Мой дерганый смех становился все громче. Я не отводил трубку. Пусть убедятся на том конце провода, что мне хорошо. Мне очень хорошо, и я счастлив! Я смеялся, а глаза набухали слезами. Но это ведь от смеха? Так бывает всегда, когда человеку слишком весело!