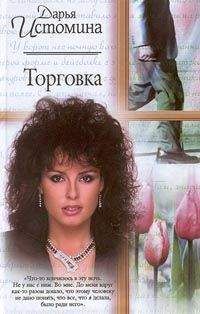Где-то была Долли, совершенно чужая и отстраненная. Где-то на даче обитала Полина, занятая закрутками и солениями. По осени она ни о чем и думать не могла, кроме своих драгоценных грибков, моченой антоновки и прочего. Она никогда не возвращалась в Москву, пока не укрывала на зиму сад. Даже на малину надевала старые колготки, которые ни один голодный заяц зимой прогрызть не мог.
И где-то у своего дружка-оружейника в Дмитрове скрывался от меня отец. Раньше иногда Антон Никанорыч к нему тоже ездил. Оружейник был увлечен самогоном, гнал настоянный на черноплодной рябине самопальный напиток ведрами, и если они там не столько рыбалят и охотятся, сколько завивают общее отставное горе веревочкой, то это до снега.
Пожалуй, батя мог загудеть и из-за меня. От одной брезгливости. Иногда мне казалось, что я его больше никогда не увижу.
Значит, что у меня оставалось? Выходило — одна селедка…
Но появляться перед Рагозиной в выпотрошенном и изрядно помятом виде мне было нельзя, и я почти круглые сутки отсыпалась.
Когда я, обмундировавшись позатрапезнее, явилась исполнять свой торговый долг, она все-таки заметила, что я как выдоенная.
— Ты не заболела, Корноухова? — спросила она.
Я что-то буркнула и немедленно потребовала полного отчета за последние две недели, в которые меня в лавке фактически не было.
Катька выложила амбарную книгу, отдельно — свою тетрадь с записями и расчетами, две пачки чеков в копиях, копии накладных и сертификаты на товар.
Я уже и так видела, что в лавочке — полный порядок. Единственное, что накопилось, — это бумажные деньги, мелочь, аккуратно расфасованная по мешочкам. Но менять рубли в валютке — это была моя забота, а раз меня не было, Рагозина к деньгам не притрагивалась.
Меня неприятно кольнуло, что она покрыла стеллажи под поддонами новой клеенкой, очень симпатичной, бежевой, и оборудовала для себя дальний угол, куда передвинула кресло и поставила на полку небольшой проигрыватель с большими радионаушниками и пластинки по курсу итальянского языка. И еще почему-то было очень много цветов, растыканных в трехлитровые банки. Мне как раз такие нравились — громадные темно-красные и лиловые георгины и поздние гладиолусы.
На Катерине был новый рабочий халатик. Не спецура, которую я для нее так и не заказала у Полины, но такого же голубого цвета. И голову почти по брови она повязала тоже голубой косынкой, отчего ее оловяшки казались почти синими. Покуривала уже в открытую — пачка крепкого «Кента» лежала на проигрывателе.
Я забрала всю бухгалтерию, разложилась на пристенном столике-откидушке за холодильником и стала разбираться.
Разбираться, в общем, было особенно не в чем. За это время через лавку прошло почти три тонны рыбы и рыбопродуктов. Не считая штучных жестянок. Рагозина была пунктуальна и будто щеголяла честностью, точностью и аккуратностью абсолютно во всем. Даже подколола расписку от мусорщиков о том, что им сдано для ликвидации пять кило испортившегося минтая и четыре банки вздувшихся консервов. Она, кажется, не без издевки выпендривалась передо мной. Словно хотела показать, что способна делать это не хуже меня, и тот примитив, которым я занимаюсь, может освоить любой дебил.
А я, посасывая сигаретку, с хмурой иронией думала, что за весами стоять — не велика премудрость. Эта чистюля никогда не поймет, что даже без меня четко сработала моя система — тот механизм, который я собирала и отлаживала годами, как опытный настройщик свой рояль. Меня в лавке не было, но поставщики продолжали исполнять договоры, привозили и свежачок, и соления. Даже карпушки осеннего закинули из Конакова. Я никогда никого всерьез не обманывала. И они не сомневались, даже не получив от Рагозиной ни копейки, что я со временем непременно и точно рассчитаюсь с ними. А это значило, что у меня есть то, что ценится дороже всяких денег, расписок и долговременных контрактов. Мое Имя. Мое Слово. И если я снова отвалю на какое-то время, это ничего не изменит, все будет идти, как шло, пока я не вернусь.
Я слышала, как Катерина вежливо чирикает за прилавком, каждый раз приговаривая: «Благодарю за покупку!» Наверное, в круизах насмотрелась, как ведут себя иноземные торгашки.
Я начала пересчитывать деньги, хотя уже и так знала, что все до копейки сойдется, и тут она заглянула в мой закут с букетом сиреневых гладиолусов и с досадой зашептала:
— Опять цветы принес… А теперь сидеть будет! Да нет, он не мешает… Просто заходит с тыла, сядет на корточки за задней дверью и сидит! Почти каждое утро. Вежливый, но помойный теперь какой-то… Что этому жулику надо, Корноухова? Я его внутрь не пускаю…
— Ну и глупо… Он своих не трогает!
Я уже догадалась, о ком речь. О Галилее.
Сколько лет Роману Львовичу, я до сих пор не знала. Лицо у него было каким-то текучим, то блеклым и старчески-опавшим, то почти молодым, с приятной розовостью. Но я давным-давно поняла, что здоровый цвет лица появляется у него, лишь только он примет с утра первые пятьдесят граммов, и поддерживается в течение дня такими же малыми и регулярными дозами. Правда, алкашом Галилей себя не считал и как-то не без гордости заметил, что следует заветам великого Уинстона Черчилля, который до девяноста лет пил малыми порциями обожаемый армянский коньяк, поставляемый ему по личному указанию Сталина еще с тех времен, когда мы совместно с англичанами ломали ребра Адольфу. Этот приказ неукоснительно продолжал исполняться и тогда, когда из союзников мы стали заклятыми врагами, и даже после смерти Иосифа Виссарионыча до самой кончины великого британца.
Обычно Галилей заправлялся где-то на свои. А если появлялся у меня с утра, значит, на чем-то погорел и сел на временную мель.
Иногда он бывал мне полезен по-настоящему. Вдруг притаскивал в зубах новость о том, где и что можно перекупить задешево. Я как-то предлагала ему стать моим коммерческим агентом и иметь процент с каждой сделки, но он высокомерно отказался.
Роман Львович был интересным типом. Просто ходячая энциклопедия. Он был в курсе всего на свете — начиная с того, как лечить собаку от лишая, до теории о разбегающейся Вселенной, каковую в конце концов ожидает тепловая смерть.
Я отворила заднюю дверь.
Галилей сидел на корточках, покуривая. Неряшливо распатланный и давно не бритый, в засаленном старом комбинезоне, присыпанном цементной пылью, с рукавицами грузчика за брезентовым поясом.
Он страшно обрадовался, поцеловал мне руку и сказал с облегчением:
— Ну наконец-то Мэри… Я без вас просто погибаю! Эта милая девушка, хотя и превосходно воспитана и деликатна, но… недопонимает! Или слишком юна, или просто ханжа… У меня скверный период, Мэри… Увы мне!