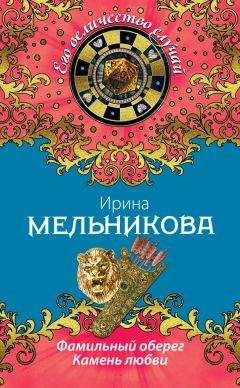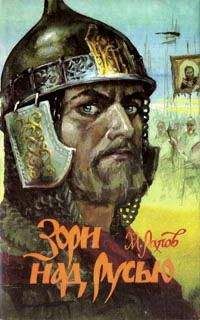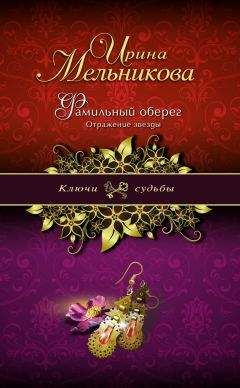Три шага осталось до того места, где лежала его смертельно раненная любовь. Но эти шаги показались Мирону едва ли не самыми трудными в жизни.
Олена стояла рядом с Айдыной на коленях, крестилась и что-то шептала, обливаясь слезами. Увидев Мирона, отползла в сторону. Сарафан ее пропитался кровью, как и рубаха Айдыны. Княжна Чаадара была еще жива и лежала, сжимая рукой стрелу, торчавшую из раны. Но глаза уже помутнели, а на побелевшем лице застыла гримаса страдания. Никто не посмел извлечь стрелу, понимая, что кровь хлынет с новой силой. Мирон подложил под спину Айдыны руку, пытаясь приподнять, но она застонала и решительно качнула головой. А затем долгим взглядом посмотрела на него и, узнав, обреченно улыбнулась; на ее ресницах дрожали слезы.
— Сына… береги! — с трудом произнесла она.
В груди у нее заклокотало, на губах выступила кровь, но последним усилием воли она сумела-таки вытолкнуть из себя несколько слов:
— Серьги мои… сыну отдай… когда… мужчиной станет. Пусть… чтоб не прервать… силу…
Мирон склонился ниже, стараясь разобрать, что говорит Айдына, но она смолкла на полуслове, с трудом подняла руку и рванула стрелу. Кровь, пузырясь, хлынула из раны. Княжна выгнулась, словно пыталась оторвать голову от земли, но не справилась и закрыла обессиленно глаза. Затем глубоко вздохнула, отчего кровь струйкой потекла по подбородку, и замерла.
Мирон силился проглотить застрявший в горле комок и не мог. Он сам поднял легкое даже в доспехах, еще теплое тело и понес. Воины Айдыны ему не препятствовали. Они чувствовали его право нести их княжну и шли за ним, ведя в поводу лошадей. Ончас семенила следом, прижимая к груди малыша, прикрытого полой халата. Мирген, видно, заснул и не ведал о беде, случившейся с его матерью. Старуха — без шапки, с растрепанными седыми косицами — плакала молча, и черные, то ли от пыли, то ли от горя, слезы бежали по ее щекам. А кровь Айдыны стекала по рукам и одежде Мирона. Он нес ее, свою любовь, прижимая бережно к груди. Впервые открыто, на глазах десятков людей…
Черная туча заходила над острогом; резко стемнело, а Мирону казалось, что свет померк от его горя.
— Сюда! Сюда! Положи ее сюда! На парусину! — кто-то тронул его за рукав. — А то вот-вот дождь хлынет!
Мирон оглянулся. Андрей Овражный смотрел на него мрачно, но в глазах промелькнуло страдание. Старый товарищ! Он понял наконец, какая ржа точила душу молодого воеводы последние годы. Конечно, он знал, что князь увлекся было юной кыргызкой, но та сбежала на следующий день после ночи, проведенной в его покоях. Казалось, Мирон успокоился, но в плену, видно, все у них и сладилось…
Андрей вздохнул и помог Мирону осторожно опустить тело Айдыны на кусок парусины, который притащил Фролка-распоп. Он суетился тут же и шепотом поведал Овражному, что готов уступить собственноручно срубленную домовину.
— Из листвяга она! Крепкая! Для себя готовил, да, видать, не судьба, — шептал Фролка, косясь на Мирона.
А тот, опустившись на колени рядом с Айдыной, неотрывно смотрел на нее, не замечая ничего и никого вокруг.
— Надобно девку похоронить достойно, упокой ее душу, Господи! — Фролка размашисто перекрестился. — Хоть и язычница была, но все мы дети Божьи, а какого роду-племени, разве то важно?
И, шмыгнув носом, вытер слезу, скатившуюся по щеке в лохматую бороденку. Затем подошел к Мирону.
— Воевода! Обмыть бы надо Айдынку перед тем, как в керсту положить. Пускай бы Олена с бабами занялась, а?
Мирон поднялся на ноги.
— Да, — сказал глухо, — пусть подготовят. Похороним ее рядом с отцом за частоколом. Так будет лучше!
— Кыргызы могут воспротивиться, — осторожно заметил Овражный. — Мол, не по их обычаям…
— Как я сказал, так и будет! — неожиданно вспылил Мирон. — Айдына будет лежать рядом с Теркен-бегом. Она…
И тут будто взорвалось небо. Оглушительный раскат грома прокатился над острогом. Казалось, даже земля вздрогнула от грозного рыка стихии.
— Господи! — присев от неожиданности, прошептал побелевшими губами Фролка и быстро-быстро несколько раз перекрестился. — Это что ж такое творится?
Черная туча зависла над городком, напоровшись жирным брюхом на башенные флюгеры с двуглавыми орлами и на церковный крест. Завыли псы на посаде, заволновались, заржали лошади, замычали коровы и заблеяли овцы. Забегали суетливо люди. Бабы, вереща от страха, хватали детей, толкали их в избы. Мужики, торопливо крестясь, всматривались в небо, где творилось что-то несусветное: алые всполохи метались внутри тучи, бурлившей, как адский котел. Казалось, там копится неведомая сила, которая давит, распирает изнутри жуткое чудовище, а оно утробно ворчит, сопротивляется, но вот-вот разлетится в клочья.
Звонарь взобрался на колокольню. Но туча накрыла и ее. И оттого казалось, что колокола звучат с неба. Второй раскат грома и — почти мгновенно — третий, четвертый, и дальше — бессчетно — были намного мощнее и злее. Они заглушили и церковный набат, и дикие вопли острожного люда. А следом обрушились молнии. Небо яростно гремело и плевалось пламенем. Огненные стрелы били одна за другой, а то вдруг целым пучком, словно опытные бомбардиры по пристрелянным целям — крышам изб, казарм, амбаров, казенных складов, что вспыхивали разом, точно солома. Одновременно, как свечи, занялись башни острога и частокол; заполыхали лавки и базарные ряды на купище, мучные и соляные лабазы на берегу; запылали плотбище и причал, дощаники с разным товаром и рыбацкие лодки.
Святой храм мгновенно превратился в костер, а с колокольни полетел вниз сгусток пламени, то был звонарь. Жалобно ухнув, упали наземь колокола. Люди в горевшей одежде метались между избами, тащили детей, пытались спасать жалкий скарб и обезумевшую скотину; дико, по-звериному, кричали те, кто не смог выбраться наружу. Рушились крыши, трещали стены. Со страшным грохотом вспучилась вдруг в дальнем углу острога земля, взметнулась вверх стена дерна, камней, обломков дерева и кусков железа — то почти одновременно взорвались пороховой и оружейный погреба.
Языки пламени носились по воздуху, как огромные осы, и жалили, жалили всех без разбора. Отовсюду, настигая людей, калеча их и убивая, летели раскаленные угли, горящие головешки, красные от лютого жара бревна. Лошади с неистовым ржанием бились в стойлах, а те, что остались снаружи, порвав поводья, круша коновязи и сметая все на своем пути, ринулись в распахнутый зев ворот. Створки каким-то чудом успели развести воротные сторожа, открыв путь к спасению обитателям острога. Но тут налетел шквальный ветер — взметнул огонь до небес, закрутил, завертел его в стремительной пляске и понес ревущее пламя в степь, к сопкам, к кыргызскому лагерю…