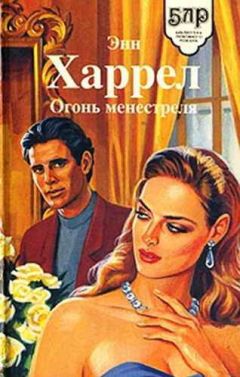— Ты все такой же. Мечтатель, — насмешливо сказала Вильгельмина.
— А ты, Вилли? Разве ты никогда ни о чем не мечтала?
— Только о том, что возможно, но не о том, что могло бы быть. Ну, хватит болтать ерунду. — Она испытующе взглянула на него. — Зачем ты пришел?
— Чтобы увезти тебя, — просто сказал он.
У нее, как в ранней юности, екнуло сердце, но жизнь научила ее полагаться только на себя и ни на кого больше. Она сумеет позаботиться о себе. И всегда умела.
— Я еду за Катариной, — продолжал Голландец. — Я обещал Джоханнесу, что с ней — как и с тобой, и с Джулианой — ничего не случится. И выполню обещание.
— А Джоханнес, разумеется, не поверил, — фыркнула Вильгельмина: — Все мы слышали от тебя множество обещаний — и верили им. Но ты-то думаешь, прежде всего, о своей шкуре.
— Ты не веришь, что я мог измениться?
Вилли лишь засмеялась в ответ. Она уже не верит словам, ей нужны поступки. Но все же что-то внутри — какая-то крохотная, непослушная часть ее души — подсказывало ей, что на этот раз Хендрик не обманывает ее, и, может статься, не обманывается и сам. Он всегда был полон радужных надежд и грандиозных замыслов. Он считал, что ему все по плечу. И Вильгельмину всегда привлекала эта его черта. Когда они были молоды, он всегда казался таким бодрым благодаря своему неиссякаемому оптимизму, в нем била энергия, и ни у кого не возникало сомнений, что он способен совершить те чудеса, о которых хвастал налево и направо. Он не был негодяем, но не был и простаком.
Нет, Хендрик не изменился. Она не даст ему еще один шанс самоутвердиться; она сама распорядится своей судьбой. Но все же она поймала себя на том, что втайне желает, чтобы сейчас наконец он не упустил этой возможности, — не выжидал и не прятался, а действовал. Действовал, не понуждаемый обстоятельствами, а исходя из собственных убеждений.
— У Катарины нет Менестреля, так? — спросил он, подойдя к окну.
Вильгельмина не ответила.
Хендрик взглянул на нее и улыбнулся.
— Ладно. Можешь не отвечать, я и так догадался. Если бы Джоханнес отдал Менестреля Катарине, она выбросила бы его в Хадсон-ривер. Мы-то с тобой знаем, как она ненавидит алмаз. А Блоху это неизвестно. Но когда он обнаружит, что у нее нет камня, он убьет ее и займется Джулианой и тобой, Вильгельмина. Но он может объявиться и раньше. Это в его стиле.
— Пусть объявляется. Джулианы здесь нет, а мне он не страшен.
— Похоже, твои желания начинают исполняться, — зловеще произнес Хендрик, застыв у окна и глядя на улицу. Он кивнул Вильгельмине, и она подошла. Встав рядом, она выглянула в окно и увидела, как двое мужчин быстрым шагом направляются ко входу. — Это Блох со своим человеком.
— Там стоят швейцары…
Хендрик засмеялся, и Вильгельмина тут же пожалела о своей наивности.
— Если Блох опять столкнется со мной, он убьет меня, — сказал Хендрик. — И тогда я вряд ли смогу вам помочь.
Вильгельмина пожала плечами.
— Мне кажется, он все равно когда-нибудь убьет тебя.
— Может, и так. — Он усмехнулся. — А тебе хотелось бы этого, да, Вилли? Поверь, это не принесет тебе удовлетворения, которого ты ожидаешь. Ты живешь ненавистью ко мне.
Он направился к двери. Вильгельмина коснулась его руки, но не для того чтобы удержать. И он, похоже, почувствовал это. Его глаза остались такими же голубыми, какими она запомнила их. Она видела их во сне. Она не могла приказывать снам, не могла отогнать их прочь. Кто она такая, чтобы переиначить прошлое? Он — дьявол, да! Но не всегда же она считала его таким. Это тоже было частью прошлого.
Она тихо спросила:
— Ты когда-нибудь касался ее?
— Нет, — сказал он. — Никогда.
И опять исчез.
Старуха-голландка не умела говорить по-английски, и это взбесило Блоха. Но он сообразил, что младшая сестра переведет, он легко заставит ее сделать все, что ему нужно. Собственно, особых объяснений и не потребовалось. Он нацелил на старуху свой «магнум» и велел толстой корове пошевеливаться и собираться. И она не стала мешкать.
Но он допустил оплошность — расслабился и отпустил вниз своего охранника — и вот тут-то в ее руках и блеснул нож. Таким ножом можно было слона разрубить пополам. Блох так неожиданно почувствовал его лезвие на своем горле, что не успел выстрелить в эту чокнутую суку. Он замешкался на какую-то долю секунды и теперь стоял идиот идиотом. Ему не хотелось поднимать шума — он и так переполошил всех внизу, прорываясь сюда мимо швейцаров. И сейчас, даже если ему и удастся разрядить свою пушку, старуха успеет всадить ему нож в глотку. А если и не успеет и ему удастся отбросить ее, — все равно будет шум и переполох.
А кроме того, не исключено, что алмаз у нее. Вильгельмина Пеперкэмп нужна ему живой.
— Эх ты, — проворчала старуха и обругала его по-голландски. Она отбросила нож и прошествовала к лифту.
— О, Господи, — пробормотал Блох. Хорошо еще, что рядом не было его людей.
Он старался не глядеть ей в глаза, пока они ехали в лифте. Он признал, что пока она взяла верх над ним.
В холле к ним присоединился один из его людей. Парню стоило немалых усилий убедить швейцаров, что пока не настало время вызывать кавалерию. К дому подкатила машина, и они вскочили туда, при этом Блох хорошенько наподдал старухе. Хенсона — того, что стоял на посту на другой стороне улицы, — они тоже забрали с собой. Вид у него при этом был почему-то не очень радостный. Они еще не отъехали далеко, а Блох уже успел узнать причины печали.
— Приходил Старк, — сказал Хенсон.
Блох выругался. Ему следовало бы навестить Старка, когда он был в Вашингтоне. Черт! Надо было позаботиться о нем еще двадцать лет назад во Вьетнаме.
— Что ты рассказал ему?
— Ничего.
Блох не поверил. Ну да ладно, все равно пора кончать с Мэтью Старком.
— Как вы думаете, швейцары не вызовут полицию?
— Вызовут — не вызовут, — насмешливо протянул Блох, — Какая разница? Что ты дергаешься? Мы свободны и невинны.
Хенсон откинулся на спинку сиденья, но его явно что-то тревожило, и Блох спросил себя — уж не задумывается ли парень о чем-то лишнем или у него просто душа в пятки ушла? Все его люди — барахло. Ну, не все, конечно, но большинство. Но скоро все должно измениться, и он решит эту проблему.
Он приказал — водителю поторапливаться, ему хотелось как можно скорее оказаться в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси. Потом велел этим двум бабам, болтавшим по-голландски, заткнуться. Та, что помоложе, на вид ничего, только побледнела очень и вся взмокла из-за сломанной руки. И как же она ненавидит его! А старуха назвала его нацистом. Блох порадовался, что она не знала про сломанную руку сестры, иначе вряд ли отбросила бы нож.