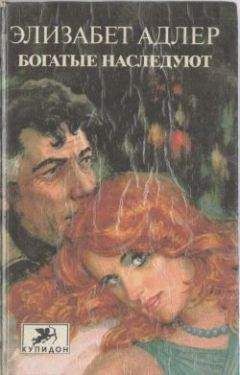– Она в очень тяжелом состоянии, – говорили ему. – Уповать остается только на время и Бога…
Пуля проникла в ее мозг с правой стороны – неглубоко, но достаточно, чтобы причинить вред. Другие пули попали в правую руку и плечо, но ее рука защитила тело, и жизненно важные органы не пострадали. Оставался шанс, что она будет жить, сказали они. Но никто не знал, как тяжело пострадал ее мозг.
Они не позволили ему увидеть ее.
– Она слишком больна, чтобы узнать, что вы здесь. А вы слишком больны, чтобы ходить.
Он приказал телохранителям дежурить около ее двери день и ночь, но сестры не позволили.
– Этот госпиталь – дом Божий, – сказали они. – Мы спасаем жизни, а не лишаем жизни. Здесь не должно быть ни оружия, ни насилия.
Но они не делали никаких попыток убрать охрану от дверей палаты Франко, понимая, что риск был слишком велик.
Когда двумя неделями спустя Франко сказали, что он может покинуть госпиталь, Поппи все еще не открывала глаза; она не двигалась, не говорила. Он пошел посмотреть на нее, зажав гардению в руках. Она лежала на кровати, голова была перевязана бинтами. Ее глаза плотно закрыты, и он мог слышать ее дыхание. Было странно, думал он, видеть ее перед собой – и все же ее не было здесь. Кто знает, где была Поппи сейчас в своих снах? Положив на подушку гардению, Франко нежно поцеловал ее и оставил Поппи ее снам.
Он отказался покинуть госпиталь до тех пор, пока она не придет в себя и он будет знать, что с ней все в порядке.
– Но, синьор, – протестовали они, – вы не можете остаться; нам потребуется ваша комната…
– Позвольте мне остаться, – сказал он. – И я обещаю, что в будущем году в вашем госпитале будет новое крыло – и сто новых комнат!
Прошло еще три недели, прежде чем Поппи открыла глаза. Он сидел у ее кровати, и она взглянула на него мутными глазами.
– Франко? – спросила она.
Ее голос был слабым и хриплым, но она узнала его. Франко ей улыбнулся.
– Теперь все будет хорошо, Поппи. Вот увидишь, все будет хорошо. Скоро ты поправишься. Я принесу тебе все, что ты хочешь.
Она улыбнулась.
– Гардении, – сказала она.
Он заполнил ими всю палату, пока сестры не запротестовали, что запах стал слишком сильным.
День ото дня Поппи становилось понемногу лучше, но когда врачи сказали ему, что процесс выздоровления может затянуться на месяцы, может быть, даже на год, он перевез ее в специальной санитарной машине в частную клинику в Неаполь.
Он заполнил ее комнату цветами, книгами, он приносил ей красивые ночные сорочки и халаты, серебряное зеркало, чтобы она могла видеть, как отрастают ее короткие волосы, остриженные перед операцией; он дарил ей всевозможные подарки и каждый день навещал, справляясь лично у врачей, как шло ее выздоровление.
– Конечно, мы пока не можем предвидеть всех последствий, – говорили они ему. – Но синьоре повезло – пуля не проникла в часть мозга, отвечающую за движения, и поэтому нет паралича… Но у нее будет некоторое ухудшение памяти… мы еще не знаем, насколько сильное.
Между прочим, она не помнит о случившемся. Она думает, что машина потеряла управление из-за дождя и что она была за рулем. Будет лучше не разубеждать ее.
Поппи выздоравливала быстрее, чем они ожидали, и двумя месяцами позже ей сказали, что она может идти домой.
Франко сидел у ее кровати; ему хотелось, чтобы она оставалась здесь—хотя бы еще неделю. Но было пора отпустить ее.
– Что ты собираешься делать? – спросил он.
Она улыбнулась ему, похожая на молодую девушку с ее новой короткой стрижкой.
– Поеду домой, – ответила она просто.
– В Монтеспан?
– Монтеспан? Конечно, нет, – на виллу Кастеллетто, – озадаченная, она нахмурилась. – Разве не это наш дом, Франко.
Он мрачно кивнул.
– Думаю, да.
– Я всегда думаю о ней как о нашем доме, – сказала она смущенно. – Но у меня такой беспорядок в голове последнее время.
– Она твоя, Поппи, – сказал он. – Все, что ты только захочешь, – твое.
Ее простодушные глаза внезапно стали грустными.
– Тебя? – спросила она мягко. Он улыбнулся.
– Боюсь, это единственная вещь, в которой я вынужден тебе отказать.
– Тогда до свидания опять, Франко.
– Да, теперь до свидания, Поппи. Казалось, она не слышала его.
– Я должна сначала поехать в Монтеспан, – закричала она. – Забрать Лючи. Бедный, бедный Лючи! Дорогой Лючи. Как я могла забыть о нем! И посмотреть, может, Роган вернулся.
– Роган?
Ее глаза сузились, и она посмотрела на него грустно.
– Что? – проговорила она слабо. – Бедный Лючи, он, наверное, так одинок. Я ненавижу одиночество. Я заберу его, и мы вернемся на виллу – на удачу. – Она с любовью улыбнулась ему. – Есть что-то наполняющее, трогающее душу в этих словах, Франко, – наудачу, навсегда…
Он смотрел на нее скорбно; одно мгновение она была его прежней Поппи, а в следующий момент ее словно затягивало в зыбучие пески, когда мысли и воспоминания путались в ее мозгу и ускользали от нее… Боже, прости меня, говорил он про себя, за то, что я сделал с ней.
1932, Италия
Энджел сидела в саду на вилле д'Оро, когда она прочла заголовок:
«Покушение на убийство главаря мафии».
Но именно последние строки этой статьи привлекли ее внимание:
Мальвази был в обществе женщины, которая была серьезно ранена. Установлено, что ею была синьора Поппи Мэллори.
Газета выпала у нее из рук на траву, когда образ Поппи, изрешеченной пулями, встал перед ее глазами, и она закрыла глаза руками, побежденная жалостью и скорбью. Почему Поппи была с таким человеком? Все знают о нем, все знают, кто он…
– Ох, Поппи, Поппи, – стонала она. – У нас было так много. Как все могло дойти до такого?
Она порывисто встала на ноги; она должна пойти к ней, она не может оставить ее так просто лежать там, одинокую и, может, умирающую… В конце концов, они ведь любили друг друга когда-то, как сестры… Подняв газету, она прочла, что Поппи была в госпитале «Кроче Росса» в Генуе… Она может поехать туда хоть сейчас.
– Мама? Что ты здесь делаешь—совсем одна? – Ее дочь Елена позвала ее через лужайку, и Энджел автоматически помахала ей рукой. Иногда голос Елены звучал почти нормально; она очень хорошо читала по губам, и если она видела человека, то всегда понимала, что он говорит. Но чем старше она становилась, тем больше забывались ее детские воспоминания о звуках, и в ее тридцать три года большинство произносимых ею слов лишь отдаленно приближались к звукам нормальной речи. Теперь только Энджел и Мария-Кристина могли понять, что говорила Елена. Елена была такой красивой – высокой, белокурой, с чистыми, как небо, голубыми глазами, глубокими, как голубые гроты, и простодушно-невинными, – что люди оборачивались ей вслед.