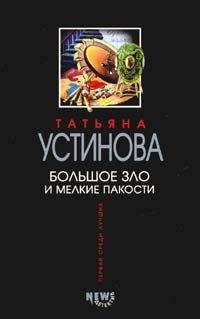Ознакомительная версия.
Он ее застрелит, мать его!..
Он прикончит их обеих.
* * *
Маруся не дошла до потаповской “Волги” шагов двадцать, когда ее провожатую кто-то окликнул с крыльца больницы.
— Я сейчас, — сказала Света, — вы тут посидите пока на лавочке. Сегодня обещали зарплату дать, так, может, начали уже?..
— Беги, конечно, — сказала Маруся весело, — зарплата — дело святое.
На солнце было совсем тепло, и лавочка приятно грела спину через пальто. Вот и весна пришла. Маруся очень любила весну, больше всего на свете, даже больше Нового года. Ей казалась, что именно весной у нее начнется небывалая, потрясающая, настоящая жизнь, и окажется, что все предыдущее было просто подготовкой, репетицией, ожиданием.
В этой новой весенней жизни непременно будет большая любовь — и непременно до гроба, — добрая собака колли, дом за городом, где с южной стороны быстрее всего тает снег и пролезает иглами молодая зеленая трава. Еще будут деревянные качели, девочка по имени Катя, уютный плед и редкий вечер вдвоем перед телевизором, когда можно забыть о делах и детях, зажечь пошлые белые свечи, достать из морозильника припасенную бутылку дурацкого полусладкого шампанского, которое и шампанским-то назвать нельзя, но какое это имеет значение! Еще будет отпуск на теплом море, розовые детские пятки в белом горячем песке, смешная панама, загорелая мордаха Федора, доска для серфинга у него под мышкой, прохладный холл мавританского отеля, взблеск орнамента на белой стене и загорелый мужчина, радостно улыбающийся безупречной улыбкой.
Маруся открыла глаза, поняв, что у мужчины лицо Мити Потапова.
Она открыла глаза и оглянулась через плечо. Светы на крыльце не было, зато по дорожке прямо к ней шел человек в белом халате, надетом поверх какого-то коричневого балахона.
Она отвела глаза и вдруг посмотрела снова. И узнала его, несмотря на весь маскарад.
Водитель выделенной Потаповым “Волги” был далеко и, скорее всего, по своему обыкновению спал, а человек, подходивший к ней все ближе, был в халате. Ничего подозрительного.
Он весело улыбался, показывая зубы, и в глазах его Маруся видела свою собственную смерть.
Все. Больше ничего не будет. Ни весны, ни Федора, ничего. Никогда. Прямо здесь, на деревянной лавочке в больничном сквере через секунду кончится ее жизнь.
На счет раз.
Маруся поползла по лавочке, перехватывая руками, стремясь отползти как можно дальше.
Зачем?
— Привет, — сказал человек, подойдя к ней вплотную, — только не вздумай орать, потому что мне придется пристрелить тебя прямо здесь, а это некрасиво. — Он говорил и улыбался. — Дай мне руку, Манечка. Любую.
Она смотрела на него расширенными зрачками и все перебирала руками по теплой деревянной спинке скамейки.
Сегодня первый по-настоящему теплый день.
— Ну, — сказал он тихо и перестал улыбаться. — Что еще за фокусы?
Резкий укол, как ожог, и — темнота. Оказывается, не быть — это так просто.
* * *
Она очнулась, твердо зная, что только что умерла и больше ее нет. Вокруг было темно, и она знала — это оттого, что она лежит в гробу, зарытая в землю, глубоко и безнадежно. Так всегда поступают с теми, кого больше нет. Их закапывают в землю.
Было очень больно где-то внутри, и ноги странно мерзли. У мертвых могут мерзнуть ноги?
Маруся пошевелила руками, удостоверяясь, что они у нее есть, и с трудом села.
Вот от чего у нее мерзнут ноги — она в совершенно мокром пальто. Из пальто течёт прямо по ногам.
Господи, это значит, что она… жива? Не умерла?!
Думать было трудно, но она заставляла себя.
Что это? Могила? Слишком просторно для могилы, если она хоть что-то в них понимает. Чердак? Подвал?
Скорее подвал, потому что почти нет света, а тот, что есть, маслянистым размытым пятном лежит на цементном полу, за которым как будто коридор и какие-то трубы.
И тогда она встала на четвереньки и по-собачьи поползла туда, куда вели пыльные трубы. Распрямиться было нельзя, потолок слишком низок. Пальто мешало ей, и она выбралась из него.
Трубы кто-то проложил.
Трубы проложили люди.
Если ей повезет, она доберется до людей.
Коридор все сужался, и стены наваливались, мешая дышать. Пыльная и сухая труба, по которой скользила рука, становилась все горячее, и страшно было, что в темноте рука может наткнуться на что-то еще, кроме этой трубы, но невозможно было убрать руку, оторваться от горячей металлической твердости. Тогда не осталось бы ничего, что пока еще сдерживало панику, скрученную в тугую и колкую спираль где-то ниже горла. Если дать ей развернуться, она выхлестнет наружу, ударит, проткнет насквозь, и тогда — все.
Конец.
Нужно дойти. Осталось совсем немного.
Нет. Это вранье. Никто не знает, много или нет осталось, но все равно нужно дойти.
Возвращаться нельзя. И нельзя посмотреть назад.
Плечи одновременно коснулись стен, трясущаяся рука внезапно нащупала что-то странное, явно не металлическое, высохшее, но бывшее когда-то живым, как скальп индейца, и паника наконец ударила.
Казалось, крик сгустился из черной духоты, а вовсе не был порождением измученных горящих легких.
Крик толкнулся в уши, проткнул их насквозь, ворвался в мозг и затопил его до краев.
Какое-то время крик существовал как будто сам по себе, снаружи, а потом оборвался.
И тогда стало еще страшнее.
* * *
— Он проводит совещание, — сказала секретарша оскорбленным голосом, — а в чем дело?
— Ни в чем! — заорал капитан. — Во сколько оно началось, это ваше совещание?!
— В… полтретьего, — запнувшись, ответила она.
— Начальник сам его открывал?
— Ну конечно сам! Он всегда сам…
Никоненко швырнул трубку.
Он звонил в больницу где-то около двух часов дня. Там ему сказали, что Суркова минуту назад отправилась домой. Значит, без пяти минут два.
Пистолета нет, они нашли его. Вряд ли у него два пистолета.
Впрочем, если два, можно больше ни о чем не беспокоиться — он их уже убил.
Он завез ее куда-то и спрятал. То ли без сознания, то ли парализованную. В больничном дворе слишком много праздношатающегося народа, чтобы убить ее и остаться незамеченным, и слишком мало, чтобы скрыться в толпе, как он сделал это на школьном дворе.
Он придет ее убить, когда проведет совещание.
Это очень обстоятельный и правильный человек. На этот раз он наконец-то сделает свою работу хорошо. До этого у него все не выходило, а сейчас должно выйти.
Никоненко стиснул зубы.
Об Алине думать нельзя.
Куда он мог отвезти Суркову, чтобы успеть к началу совещания и не возбудить ничьих подозрений?
Ознакомительная версия.