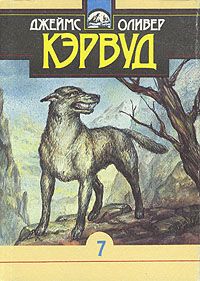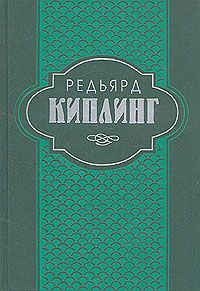– Может, хватит? – прошептал ему Гэн по-английски, но Месснер на него даже не взглянул. Они ждали более получаса.
В конце концов открыл глаза Бенхамин.
– Хорошо, – сказал он. Его голос был не менее усталым, чем у Месснера. – Пойдемте в мой кабинет.
Сесар, который так бесстрашно выступил перед слушателями с арией из «Тоски», предпочитал упражняться днем, когда все выходили в сад. Особенно с тех пор, как эти упражнения ограничились гаммами, которые казались ему бесполезными и унизительными. Он и Роксана Косс никогда не оставались одни, в этом доме вообще не существовало такого понятия, как одиночество. Като был здесь, потому что он играл на рояле, и господин Осокава был здесь, потому что он был здесь всегда. Ишмаэль, которого регулярно вышибали из футбольной игры, тоже присутствовал: вместе с господином Осокавой они сели за шахматную партию, придвинув к роялю журнальный столик. Ни Ишмаэль, ни Сесар не расставались с оружием на тот случай, если им действительно улыбнется удача на всю жизнь остаться в этом доме, и тогда им придется его защищать. Если бы Сесар пожаловался на то, что окружающие слушают его пение, и если бы кто-нибудь перевел его жалобу с испанского на английский, а потом ответ Роксаны Косс с английского на испанский, то он наверняка услышал бы: пение – это такое искусство, которое должны слышать другие люди, и поэтому ему следует привыкать к аудитории. Он хотел разучивать песни, арии, целые оперы, но она чаще всего заставляла его петь гаммы и какие-то бессмысленные отрывки. Она заставляла его рычать и прищелкивать губами, задерживать дыхание до тех пор, пока он не падал на стул и опускал голову между колен. Он бы пригласил всех, если бы она ему разрешила петь песни под аккомпанемент рояля, но это, говорила она, ему предстояло только заслужить.
– Это тот самый парень, который поет? – спросил Месснер. – Его зовут Сесар? – Он остановился в гостиной, чтобы послушать урок, и командир Бенхамин с Гэном остановились рядом с ним. Курточка Сесара была слишком короткой, особенно рукава, и его тощие руки торчали из них, как метелки.
Бенхамин очень гордился своим подчиненным.
– Он теперь поет целыми днями, – сказал он. – Вы просто попали в плохой момент. Сесар поет постоянно. Сеньорита Косс говорит, что у него большой талант и есть все задатки, чтобы стать великим певцом, таким же, как она.
– Помни о дыхании! – сказала Роксана и глубоко втянула в себя воздух, чтобы показать ему, как это делается.
Но Сесар споткнулся на ближайшей ноте, внезапно встревоженный присутствием командира.
– Спроси ее, как у него дела, – обратился командир к Гэну.
Роксана опустила руку на плечо Като, и он тут же снял руки с клавиатуры, как будто она повернула выключатель и его выключила. Сесар пропел еще три ноты, пока не сообразил, что аккомпанемента больше нет.
– Мы только начали занятия, но я думаю, что у него огромный потенциал, – сказала Роксана.
– Пусть он споет какую-нибудь песню для Месснера, – попросил командир Бенхамин. – Месснеру сегодня очень нужны песни.
Роксана Косс согласилась.
– Послушай меня, – сказала она. – Мы уже над этим работали.
Она тихонько напела какую-то мелодию, так, чтобы Сесар знал, что ему нужно спеть. Он не умел ни читать, ни писать по-испански и уж тем более не знал итальянского языка, но его способность к запоминанию и повторению звуков, способность заставить слушателей верить, что он все понимает, была сверхъестественной. После данных Сесару указаний Като начал играть «Меланхолию» Беллини – первую вещь, открывающую альбом его ариетт. Гэн узнал эту музыку. Он часто слышал, как в дневное время она раздается из окон гостиной. Сесар сперва закрыл глаза, потом посмотрел в потолок. «О, Меланхолия, милосердная нимфа, я посвящаю тебе свою жизнь!» Когда он забывал какую-нибудь строчку, Роксана Косс подпевала ему неожиданным тенором: «Я молил богов гор и ручьев, и они мои слезы услышали». Сесар повторял за ней строчку. Он напоминал только что родившегося теленка, впервые поднимающегося на нетвердые ножки: зрелище одновременно жалостливое и прекрасное. С каждым шагом он все лучше познает искусство ходьбы, с каждой нотой он поет все увереннее и раскованнее. Песенка была очень короткой и закончилась, едва начавшись. Командир захлопал, Меснер присвистнул.
– Не хвалите его слишком сильно, – сказала Роксана. – А то вы его испортите.
Сесар между тем, красный то ли от гордости, то ли от недостатка воздуха, им поклонился.
– Ну, глядя на него, такого не скажешь, – сказал Бенхамин и направился в свой кабинет. За ним последовали Месснер и Гэн. – Вот вы удивляетесь, а ведь нет таких славных дел, которых мы не могли бы совершить, догадайся мы только, как именно к ним подступиться.
– А я вот точно знаю, что никогда не смогу петь, – сказал Месснер.
– Я тоже это знаю не хуже вас. – Командир Бенхамин зажег в комнате свет, и все трое сели.
– Я хотел вам сказать, – начал Месснер, – что очень скоро мне, по-видимому, запретят сюда приходить.
Гэн испугался. Как это: Месснеру запретят приходить?
– Вы потеряли работу? – спросил командир.
– Правительство считает, что уже и так потратило слишком много сил на переговоры.
– Что-то я не заметил с их стороны никаких усилий. Они не сделали нам ни одного разумного предложения.
– Я говорю это как человек, который вам симпатизирует, – продолжал Месснер. – Я не претендую на то, чтобы быть вашим другом, но хочу, чтобы всем в этом доме стало лучше. Сдавайтесь! Прямо сегодня! Встаньте в такое место, где вас всем будет хорошо видно, и поднимите руки! – Месснер понимал, что говорит неубедительно, но других слов найти не мог. В волнении он говорил на всех известных ему языках: на немецком, который был его родным; на французском, на котором разговаривали в той школе, где он учился; на английском, который он изучил, когда в молодости четыре года прожил в Канаде; и наконец, на испанском, который с каждым днем становился ему все более знакомым. Гэн старался изо всех сил, чтобы совладать с этими обрывками языков, но после каждого предложения ему приходилось останавливаться и думать. Именно эта неспособность Месснера остановиться на каком-то одном языке пугала его больше всего. Времени, чтобы сконцентрироваться на смысле слов, у него не оставалось.
– А как насчет наших требований? Может быть, вам следовало говорить с ними в таком же тоне? Вы пытались убеждать их по-дружески?
– Они не пойдут ни на какие уступки, – ответил Месснер. – У вас нет никаких шансов, неважно, сколько это еще продлится. Можете мне поверить.
– Тогда мы убьем всех заложников.