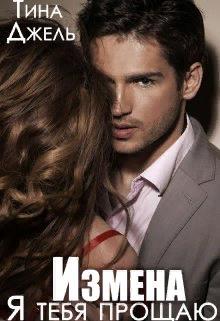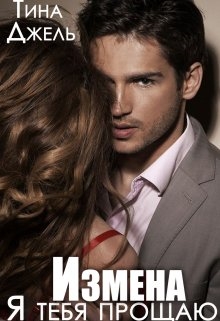Пока Витя моется, я выставляю посуду. Извлекаю супы из пакета. Ставлю чайник на газ. В буфете стеклянная дверца. А в ней замечаю своё отражение. Взбиваю причёску. Волнистые волосы лезут на лоб.
Вдруг вижу картинку. Сквозь толщу стекла её вид искажается. Она, прислонённой, стоит у стены. Я открываю буфет. Достаю её. Это не просто картинка, а фото. На нём двое взрослых и маленький сын. Они, сев на корточки, держат его. А он улыбается солнцу.
Белокурый мальчишка, на вид года три. У женщины локоны цвета соломы. Она хороша! И мужчина красив. Волевой подбородок и стрижка из русых волос. На обороте виднеется надпись. От времени стёрлась. Но можно прочесть:
«Танюше на долгую память».
Я собираюсь поставить обратно. Но Витя так тихо возник...
- Это редкое фото. Мы здесь втроём, - он мокрый ещё, с полотенцем в руках.
- Извини, - говорю, - Я увидела, и...
- Ничего, - улыбается Витя, - Обычно мы порознь. Папа вообще не любил фотографироваться. А тут удивительно, все получились.
- Красиво, - решаюсь сказать. И боюсь его ранить нечаянным словом.
Но Витя сам продолжает. В его голосе нет ни страданий, ни боли. Только печаль:
- У тёти забрал. Смотрю иногда, чтобы знать, какими они были.
Я кладу фотографию, будто это реликвия. Словно я прав не имею касаться её.
- Как жаль, что они так рано ушли.
- Нет, не жаль! - отзывается Витя, - Точнее, не жаль, что так рано.
Он садится, берёт фотографию в руки. Безболезненно, просто, глядит на неё. На себя. Будто делает так регулярно.
- Я думал об этом. Наверное, проще терять, если ты не знаешь, кого потерял. Может и лучше, что судьба забрала их так рано. Не дала мне узнать их получше.
Мне так хочется сделать хоть что-нибудь. Но любая эмоция будет казаться притворной. И поэтому я вспоминаю свой собственный опыт потери. Хочу разделить эту боль вместе с ним.
- Да, может и так. Когда папа умер, мне было уже 19. Я помню, как плакала мама. И помню, как плакала я.
Боль затопляет, и я продолжаю, сглотнув:
- Мы были близки. Он ждал появления внуков. И не дожил до рождения сына всего-ничего.
Ну, вот! Хотела утешить. А теперь утешают меня...
Вытираю слезу. Витя берёт меня за руку. Ладони его после душа ещё горячи.
- Он бы точно гордился им, - говорит о Давиде.
- Я думаю, да.
Мы молчим. И это приятно. Сидеть, взявшись за руки. Просто хранить тишину и возникшую хрупкость момента. Он так редко о них говорит! О родителях. Что любое его откровение ценно. И будто какая-та нить незаметно сшивает в единое целое. Наши руки и наши сердца...
Вспоминаю опять тот злопамятный день. Папа умер. А я не успела так много ему рассказать! Например, что люблю. Он воспринял Илью совершенно спокойно. Он был рассудителен, и всегда отвечал: «Твоя жизнь, тебе и решать».
А когда он ушёл навсегда, то боль от утраты была так сильна, что я угодила в больницу. Илья испугался! Помню, как он навещал меня там. Приносил апельсины, садился на пол у больничной постели и подолгу сидел, ожидая, пока я засну...
Чайник свистит. Мы пробуждаемся. Каждый на время погряз в своих собственных мыслях.
- В целом, весёлый был день рождения, - улыбается Витя.
- О, да! - закрываю глаза.
Наполнив тарелки крутым кипятком, он добавляет:
- А уж какая ночь была жаркая, мммм.
Мне стыдно признаться, но вспомнить, что именно было, когда мы вернулись домой, не могу. Секс, конечно! Ну, что же ещё? И, судя по алым отметинам, бурный...
- Это мой след у тебя на спине? - нахожу я ещё одну пару царапин.
- Ну, а чей же ещё? - ухмыляется Витя, - Буду носить с гордостью. Дикая кошка! Которую я укротил.
Это я? Это он обо мне? Полыхаю румянцем, припомнив обрывки. В каких только позах мы это не делали... Да! И пару засосов на шее - его компенсация за нанесённый ущерб.
Пока суп набухает, мы ждём и стыдимся смотреть друг на друга. Чтобы избавить меня от стыда, он становится сзади. Уткнувшись в макушку, загадочно шепчет:
- Ну, как твоя попка? - рука между тем достигает моих ягодиц.
Я подбираюсь:
- А что с ней не так?
- Не болит? - интересуется Витя.
Поёрзав на стуле, я отвечаю вопросом:
- А почему она должна болеть?
Он смеётся:
- Не помнишь? Бесстыдница, - руки порывисто мнут моё «мягкое место».
- Что я должна помнить? - настороженно жду, когда он соизволит сказать.
Но Витя смеётся:
- У попки спроси.
- Что... Объясни! - я встаю.
Но он совсем не торопится. Делает вид, что не слышит.
- Что ты сделал со мной? - возмущаюсь.
- Ничего такого, чего бы ты сама не хотела, - Витя усердно мешает лапшу.
Я поправляю трусы. Представить себе не могу, что позволила сделать подобную гадость! Вот что значит, утрата контроля.
- Ты ответишь за это! - цежу.
Витя смеётся, притворно подняв руки вверх. Но тут же хватает меня:
- Иди сюда, моя злобная фурия! Я буду кормить тебя вермишелькой.
От него пахнет мылом и горечью. Волоски на груди, как росой, усеяны каплями влаги. Взяв ложку и зачерпнув ароматный куриный бульон, он подносит ко рту. Моему.
- Давай, будь послушной девочкой. Ложечку за маму.
Сопротивление длится недолго. Я позволяю себя накормить. И злость отступает. И только обида на то, что из памяти выпал заветный кусочек, вынуждает меня сожалеть.
«Ничего, наверстаем», - думаю я. Моё тело уже абсолютно покорно. Осталось чуть-чуть подождать, чтобы вдобавок ему покорилась душа.