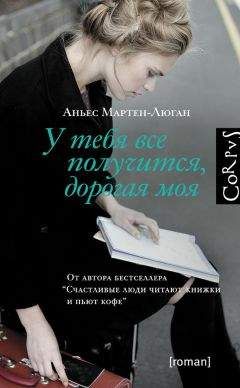хотя бы поговорить с ней и крепко обнять, я обязана забрать ее печаль, ее боль, признать, что я в ответе за ее искалеченную юность.
– Прости, прости меня, Лиза, милая…
– Ты не виновата, мама… ты сражалась, я не сомневаюсь… Я злюсь не на тебя, а на весь мир.
Она долго-долго плакала, пока не успокоилась. Постепенно она стала всхлипывать все тише, потом громко высморкалась, что смогло рассмешить нас, и снова глубоко вздохнула, только на этот раз это был вздох освобождения, облегчения.
– Мама… меня кое-что пугает…
Она выбралась из-под одеяла и села напротив меня, скрестив ноги. Я тоже приподнялась. Она так отчаянно заламывала руки, что у нее побелели пальцы. Я с трудом подавила желание поймать их и остановить ее.
Руки – это большая драгоценность.
Такая странная мысль уже давно не приходила мне в голову.
Я отогнала ее и сконцентрировалась на дочке.
– Не хочу, чтобы мне рассказывали о тебе потом… когда ты уйдешь, – призналась она. – Хочу все услышать до того, причем от тебя…
У меня засосало под ложечкой.
– Главное, я боюсь, что, когда тебя не будет, у меня сложится впечатление, будто я тебя считала совсем другой, – продолжала она. – А я не должна злиться на тебя. Возмущаться тобой и постоянно повторять себе, что ты старалась что-то скрыть от меня…
– Ты считаешь, будто дела обстоят именно так?
– Нет! Хотя на самом деле не уверена… Ты скрытная, мама… Это мучает меня уже несколько дней, я безостановочно об этом размышляю. У меня не получалось сказать это тебе… Так вот, если вдруг…
В памяти всплыла та часть моей истории, о которой Лиза не имела понятия. Я не отваживалась даже представить себе, каким это будет ударом, если ей все раскроют после моего ухода. Она сочтет, что ее предали.
Мной овладело беспокойство.
Неужели я для нее незнакомка?
А может, я стала незнакомкой для самой себя?
– Я тебя понимаю… и да, ты права, это было бы ужасно… И для тебя, и для меня. Я подумаю об этом, – пообещала я.
Она расслабилась, освободившись от груза, который давил на ее плечи. Моя очередь взвалить его на себя.
– Уже поздно, тебе пора спать, – напомнила она. – Дай мне тоже!
Лиза помогла мне удобно улечься, проверила, смогу ли я дотянуться до обезболивающих, если они понадобятся ночью, и нежно поцеловала меня. Она вышла из моей спальни, оставив дверь приоткрытой. Теперь я, как ребенок, больше не спала ни с закрытой дверью, ни в полной темноте.
Говорят, незадолго до конца перед глазами проносится вся жизнь.
Образуются ли в последний миг на моих картинах прошлого белые пятна? Или все они будут грубо заполнены, рискуя лишить меня необходимой для ухода безмятежности, которую, как мне казалось, я себе уже обеспечила? Должна ли я терзаться из-за дочери?
Где-то в Бретани
Каждая нота была словно глоток воздуха. Я не имел представления о том, где нахожусь и слушает ли меня кто-нибудь. День сейчас или ночь? Не все ли равно… я лишился существования как такового. Музыка, будто вампир, высасывала из меня все нутро. Рояль стал моим небытием. У людей ошибочное представление о небытии. Они видят в нем хаос и мрак и убеждены, что там их будут пожирать мифические враждебные создания. Если бы я немного уважал людей, то объяснил бы им, что небытие – источник покоя. Пустота умиротворяет. Боли больше нет. Нет больше страданий. Ничто не грызет тебя изнутри.
– Папа, можно задать тебе вопрос?
Я закончил игру грохотом басов и пробурчал, что слушаю его. Натан вел себя все более непринужденно и уже не опасался прерывать меня. Он разрушал мои оборонительные укрепления одно за другим. Тем не менее каждый вечер, когда он шел спать, я был счастлив, что завтра утром снова увижу его, хотя предпочел бы обойтись без этого чувства.
– Ты живешь здесь уже четыре года… Я никогда не понимал, зачем ты купил эту хибару…
С другой стороны, подобный вопрос способен был вызвать у меня раздражение. Натан всюду совал нос, расспрашивал о разных моих решениях, о событиях, которые его совершенно не касались и о которых он не должен был знать.
– Тебе не нравится вид из окна? – спросил я в ответ, повернувшись на табурете.
Натан закатил глаза, поняв, что я подшучиваю над ним. Он стоял перед окном во всю стену и любовался морем. Ведь он так любил его и в последнее время проводил в нем значительную часть своей жизни.
– Ну да, в разгар зимы здесь скучновато, почти все дома закрыты.
– Если бы я любил толпу, все давно были бы в курсе.
Смех Натана увлек меня за собой, словно яркий свет бабочку. Я подошел к нему и позволил взгляду пробежаться по противоположной, западной стороне пляжа. На ближайшие часы Натан будет моими перилами, он не позволит мне напиться настолько, чтобы не держаться на ногах. Мне редко доводилось наслаждаться этим мазохистским удовольствием. Воспоминания были мучительно прекрасными, они разрывали меня на куски, все время возвращая к тому, что я потерял.
– Папа, с тобой все в порядке? Ты побелел как полотно.
Я на несколько секунд опустил веки, стараясь прийти в себя. Потом отодвинулся от окна – и от своих страданий.
– Мне что, умолять тебя, чтобы ты позволил мне выпить?
Он обеспокоенно посмотрел на меня. Я покопался в глубинах своей души, чтобы набраться сил и улыбнуться ему. Я готов был причинить себе боль, притворяясь веселым, – только Натан заслуживал этого.
– Окей, папа! Ты получишь свой аперитив, но только при условии, что расскажешь об этой халупе, которая знакома тебе с давних времен. А ты как думал? – иронично поинтересовался он, реагируя на мое изумление. – По-твоему, мне неизвестно, что ты раньше жил здесь?
Он тоже насмехался надо мной. Ну и ладно. Пока еще я сильнее и сумею схитрить.
Благодаря сыну я расширил пространство, которое занимал в доме. Мой мир больше не сводился к роялю. Натан побуждал меня отойти от инструмента, пусть и не слишком далеко. Гостиная, с ее панорамным видом на океан, была достаточно просторной, чтобы в ней поместились рояль и два больших дивана, на которые мы сели лицом друг к другу. Словно противники. Но я не хотел, чтобы этот момент истины, разделенный с Натаном, превратился в битву. Я предложу ему подкрашенную версию истории, но при этом достаточно полную, чтобы он оставил меня в покое, согласившись с тем, что некоторые части