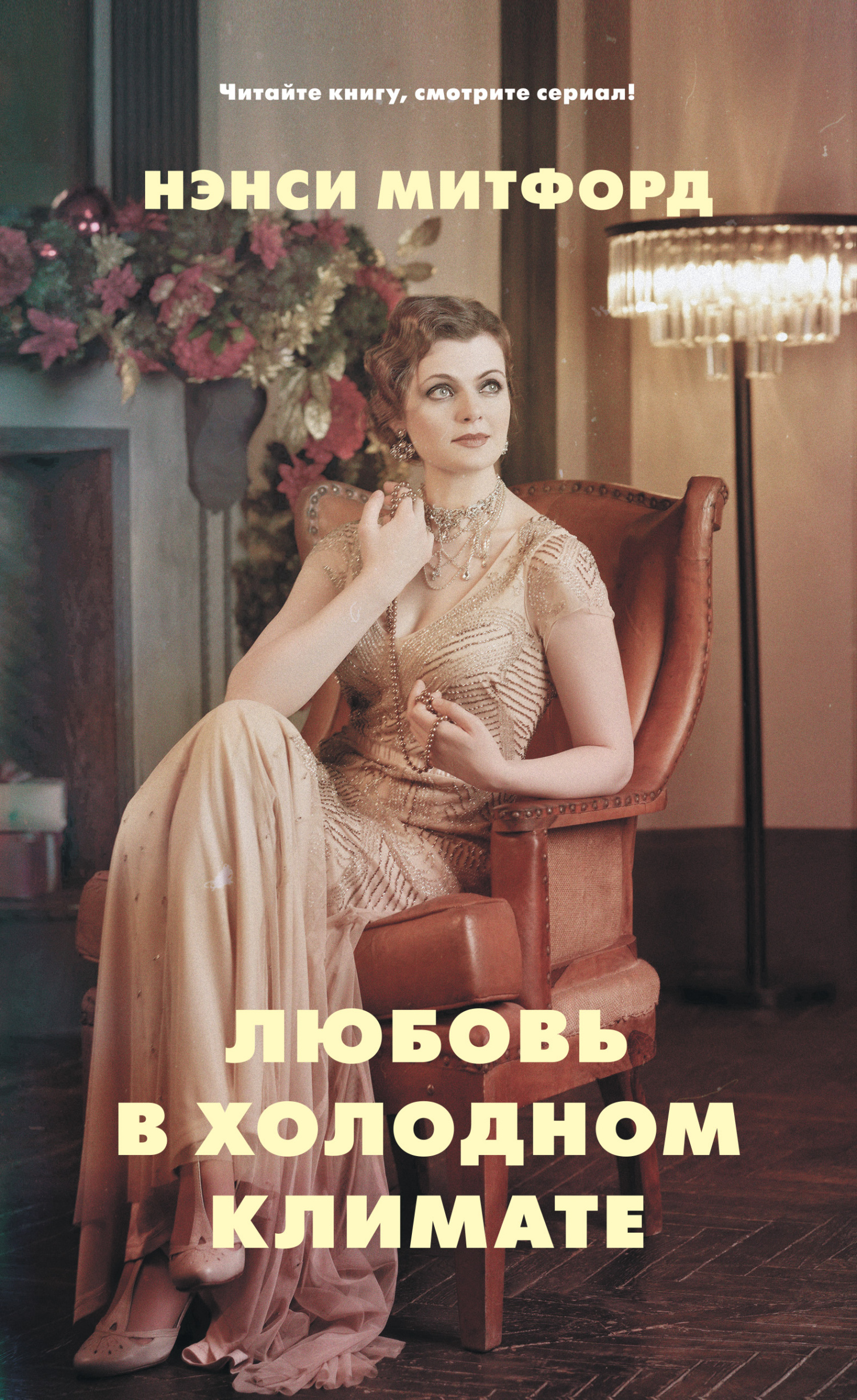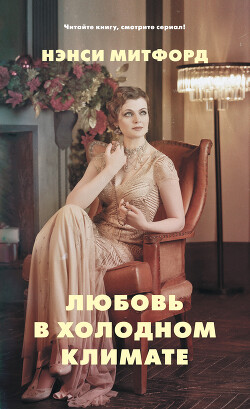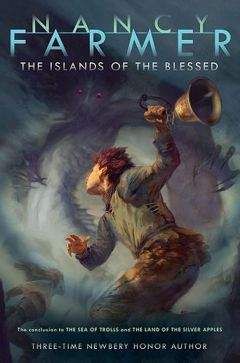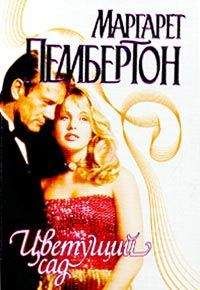столь неожиданного. Он был удивительно не связан со зрением: казалось невозможным поверить, что эти непрозрачные голубые камни наблюдают, усваивают или делают что-то еще, кроме как источают благодать на того, в чью сторону устремлены.
Неудивительно, что родители обожали Полли. Даже леди Монтдор, которая была бы ужасной матерью некрасивой девочке или эксцентричному, своенравному мальчишке, без труда удавалось быть идеальной по отношению к ребенку, оказывавшему ей, как казалось, большую честь перед лицом мира и венчавшему ее амбиции – венчавшему, пожалуй, буквально. Полли всегда предназначали для незаурядного замужества. Разве не рисовалось воображению леди Монтдор нечто очень величественное, когда она нарекла дочь Леопольдиной? Не имело ли это имя королевского, смутно кобургского [11] привкуса, который может однажды оказаться весьма кстати? Не мечтала ли она об алтаре в Вестминстерском аббатстве, об архиепископе, о голосе, произносящем: «Я, Альберт Эдвард Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид, беру в жены тебя, Леопольдина»? В этой мечте не было ничего невозможного. С другой стороны, не могло быть ничего более английского, здорового и незатейливого, чем имя «Полли».
* * *
Нас с моей кузиной Линдой Рэдлетт с самого раннего детства приглашали поиграть с Полли, поскольку, как это часто бывает с родителями единственного ребенка, Монтдоры были всегда сильно озабочены ее возможным одиночеством. Я знаю, что мою приемную мать тетю Эмили терзали такие же опасения, и она пошла бы на что угодно, лишь бы не держать меня при себе одну во время каникул. Хэмптон-парк расположен неподалеку от поместья Алконли, где жила Линда, и они с Полли, будучи примерно одного возраста, казалось бы, были обречены стать лучшими подругами. Однако по какой-то причине девочки никогда не были особенно привязаны друг к другу, да и леди Монтдор не любила Линду, и как только та освоила азы общения, объявила ее разговоры «неподходящими». Я как сейчас вижу Линду за ланчем в большой столовой Хэмптона (той самой столовой, в которой я в разные периоды своей жизни бывала так объята ужасом, что самый ее запах, столетний букет, сохранившийся после дорогой еды, дорогого вина, дорогих сигар и дорогих женщин, до сих пор действует на меня, как запах крови на животное), слышу ее певучий рэдлеттовский голос:
– У тебя когда-нибудь были глисты, Полли? У меня были, и ты представить себе не можешь, какие они беспокойные. А потом – о, самое интересное! – пришел доктор Симпсон и стал их гнать. Ну, ты же знаешь, что док Симп всегда был любовью моей жизни, так что сама понимаешь…
Это было слишком для леди Монтдор, и Линду больше никогда не приглашали. Но я приезжала к ним примерно на неделю почти в каждые каникулы, отсылаемая туда по пути в Алконли или обратно, как часто проделывают с детьми, никогда не спрашивая, нравится ли им это и хотят ли они поехать. Мой отец приходился лорду Монтдору родственником по материнской линии. Я была благовоспитанным ребенком и, видимо, нравилась леди Монтдор, во всяком случае, она, должно быть, считала меня «подходящей» (это слово присутствовало в ее словаре на видном месте), потому что в какой-то момент встал вопрос о моем переезде туда на целый семестр, чтобы делать с Полли уроки. Однако когда мне исполнилось тринадцать, они уехали управлять Индией, после чего Хэмптон и его владельцы стали для меня туманным, хотя и всегда тревожным воспоминанием.
К тому времени как Монтдоры вместе с Полли вернулись из Индии, я выросла и уже провела в Лондоне один светский сезон. Мать Линды, моя тетя Сэди (леди Алконли), вывозила меня в свет вместе с Линдой. Иными словами, мы побывали на нескольких балах дебютанток, где все молодые люди были такими же юными и такими же робкими, как и мы сами. Все это имело сильный привкус детской неудачи, было совершенно не похоже на реальный мир и так же мало готовило к нему, как детские утренники. К концу лета Линда стала обрученной невестой, а я вернулась домой в Кент, к другим своим родственникам – тете Эмили и дяде Дэви, которые освободили моих разведенных родителей от скуки и бремени воспитания ребенка.
Дома я скучала, как это бывает с молодыми девушками, когда у них впервые нет ни уроков, ни вечеринок, чтобы занять ум, а затем однажды посреди этой скуки пришло приглашение погостить в октябре в Хэмптоне. Я сидела в саду, и тетя Эмили вышла ко мне с письмом от леди Монтдор в руке.
– Леди Монтдор говорит, там соберется довольно взрослое общество, большей частью «молодые женатые пары», но она хочет, чтобы именно ты составила компанию Полли. Конечно, для вас, девушек, будут двое молодых людей. О, какая жалость, что сегодня Дэви вздумалось напиться. Я горю нетерпением рассказать ему, он так заинтересуется.
Впрочем, ей пришлось подождать. Дэви был мертвецки пьян, и его храп разносился по всему дому. Приступы нетрезвости у моего дяди не были проявлениями порочности, а носили чисто терапевтический характер. На самом деле он следовал новой оздоровительной системе, весьма модной, как он нас заверял, в то время на континенте.
– Цель в том, чтобы разогреть железы серией ударов. Худшая в мире вещь для тела – утихомириться и вести тихую, незаметную жизнь, состоящую из правильных привычек. Если вы так поступите, оно вскоре покорится старости и смерти. Встряхните свои железы, заставьте их реагировать, вспомнить юность, держите в постоянном напряжении, чтобы они никогда не знали, чего ожидать в следующий момент, и им придется сохранить молодость и здоровье, чтобы противостоять всем сюрпризам.
В соответствии с этим он попеременно то голодал, как Ганди, то объедался, как Генрих VIII, то совершал десятимильные прогулки, то лежал весь день в постели, дрожал в холодной ванне или потел в горячей. Никакой умеренности.
– А еще очень важно периодически напиваться.
Дэви, однако, был таким человеком, который мог заменять полезные привычки вредными не иначе, как в строгом порядке, поэтому он всегда напивался в полнолуние. Находясь когда-то под влиянием Рудольфа Штайнера, он по-прежнему очень серьезно относился к росту и убыванию луны и, судя по всему, предполагал, что рост и убывание емкости его желудка совпадает с лунными фазами.
Дядя Дэви был единственным звеном, связывавшим меня с миром – не с миром детских неудач, а непосредственно с большим грешным миром. Обе мои тетки отреклись от этого мира в раннем возрасте, так что для них его существование было практически нереальным, тогда как их сестра, моя мать, уже давным-давно исчезла в его утробе. Дэви, однако, имел