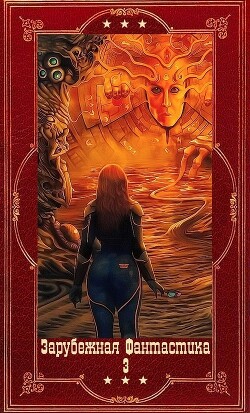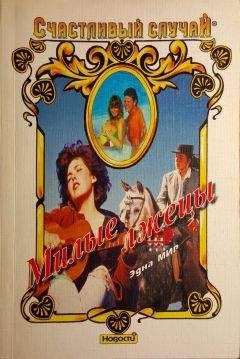и ровные столы красного дерева на Уобэш-авеню, как будто их позаимствовали из библиотеки».
Селине нравились поездки в город, она устраивала себе настоящий праздник. Дирк водил ее в театр, и Селина сидела там как зачарованная. Ее восприятие этого вида развлечений оставалось таким же непосредственным и восторженным, как в эпоху театра Джона Дейли, когда она маленькой девочкой сидела в первых рядах партера с отцом Симеоном Пиком. Как ни странно, она не любила кинематограф, хотя в ее жизни было так мало того, что зовется романтикой и приключениями. «Между фильмами и захватывающей театральной пьесой, – говорила она, – колоссальная разница. Да, да! Это все равно что дурачиться с бумажными куклами, когда у тебя есть возможность поиграть с настоящим живым ребенком».
У нее развилась страсть забираться в самые неожиданные закоулки огромного разрастающегося города, и всякий раз она обнаруживала там что-нибудь удивительное. Очень скоро она уже знала Чикаго лучше, чем Дирк или старый Ог Хемпель, проживший в городе больше полувека, но не отклонявшийся далеко от своей нахоженной дорожки от складов к дому и от дома к складам.
То, что потрясало ее в Чикаго, казалось, совершенно не интересовало Дирка. Иногда на день или два она занимала свободную комнату в его пансионе.
– Представляешь! – захлебываясь, рассказывала она, когда сын возвращался вечером из конторы. – Я забрела далеко, в северо-западные районы города. Это другой мир! Это… это Польша. Там католические соборы, магазины, люди целыми днями сидят в ресторанах, читают газеты, пьют кофе, играют в домино или в какую-то похожую игру. И знаешь, что я выяснила? Чикаго – второй город в мире по числу польского населения. В мире!
– Да? – рассеянно переспрашивал Дирк.
Но в тот день, когда он говорил с матерью по телефону, в его голосе не было рассеянности:
– Ты точно не обидишься? Тогда я приеду домой в следующую субботу. Или могу приехать и переночевать в середине недели… У тебя все хорошо?
– Просто прекрасно. Обязательно запомни все интересное про дом Паулы, чтобы потом мне рассказать. Джули говорит, что он похож на дом из романов. По ее словам, старина Ог был там только однажды и с тех пор отказывается даже близко подходить. И правнуков не навещает.
Тот мартовский день был на редкость теплым для Чикаго. Весна, обычно такая скромница в этих местах, на этот раз стремительно ринулась им навстречу. Когда массивная вращающаяся дверь конторы Дирка вытолкнула его на улицу, он увидел у края тротуара спортивный автомобиль Паулы, длинный и низкий. Паула была в черном. Этот цвет носили все дамы высшего и среднего класса Америки. Два года войны украли у парижанок их мужей, братьев, сыновей. Поэтому Париж ходил в черном. Америка, войной не затронутая, весело позаимствовала траурную моду, и теперь Мичиган-бульвар и Пятая авеню с притворным самоотречением наряжались в мрачные креп и шифон – черные шляпы, черные перчатки, черные туфли. В этом году черный был самым «правильным» цветом.
Пауле черный не шел. Она была смугловата для столь мрачных одеяний, хотя ее немного спасала нитка жемчуга изысканного оттенка, идеально подходящая к наряду, и пудра новой марки. Паула улыбнулась ему с водительского места и похлопала по кожаному сиденью рядом. Ее пальцы в отороченной мехом перчатке казались удивительно толстыми.
– Ехать будет холодно, застегнись как следует. Где заберем твой чемодан? Ты все еще живешь на Деминг-плейс?
Дирк все еще жил на Деминг-плейс. Он сел рядом с Паулой – такое было доступно лишь молодым и гибким. Теодор Шторм никогда не пытался согнуться пополам, точно складной нож, чтобы влезть в машину и занять место рядом с женой. Ее автомобиль был сконструирован не для комфорта, а для скоростной езды. Приходилось сидеть, откинувшись назад и вытянув вперед ноги. На ножках Паулы, так мастерски давивших на педали тормоза и сцепления, совершенно не к месту были надеты прозрачные черные шелковые чулки и лакированные туфли с пряжками. «Тебе следовало потеплее одеться, – сказал бы ей муж. – И в таких идиотских туфлях машину не водят».
И он был бы прав. Дирк ничего не сказал. Рулила Паула как по волшебству. Автомобиль то вливался в поток других машин, то выныривал из него, словно эмалевый ручеек, беззвучный и быстрый, в водах большой реки.
– Здесь мне не разогнаться, надо проехать Линкольн-парк. Как ты думаешь, они когда-нибудь снесут этот жуткий мост на Раш-стрит?
Когда они подъехали к его дому, она заявила:
– Я поднимусь. У тебя найдется чай?
– Нет, черт возьми! За кого ты меня принимаешь? За молодого человека из английского романа?
– Слушай, Дирк, не будь типичным чикагским провинциалом.
Они поднялись на три пролета. Паула огляделась. Нельзя сказать, что ей не понравилось.
– Вполне прилично. Кто обставил тебе комнату? Она! Очень мило. Но тебе, конечно, нужна собственная квартирка с японцем, который бы тебя обслуживал. Например, делал бы то, чем ты сейчас занимаешься.
– Да, – мрачно ответил он, продолжая собирать чемодан – не бросать в него одежду как попало, а складывать ловко и аккуратно, как сын, воспитанный благоразумной матерью. – Моего жалованья как раз хватит, чтобы содержать японца в белоснежном льняном халате.
Паула прохаживалась по комнате, брала книгу, ставила на место, теребила в руках пепельницу, глядела в окно, рассматривала фотографию, курила сигарету, взятую из коробки на столе. Беспокойная, напряженная, похожая на кошку.
– Я пришлю тебе кое-что для интерьера, Дирк.
– Ради бога, не надо!
– Почему?
– В мире есть два типа женщин. Это я понял еще в колледже. Те, кто присылает мужчинам что-нибудь для интерьера, и те, кто не присылает.
– Ты очень груб.
– Сама напросилась. Все! Я собрался. – Он защелкнул замок на чемодане. – Прости, ничего не могу тебе предложить. У меня ничего нет. Даже бокала вина и… что там пишут в романах? Ах да! Бисквитов.
Сев снова в автомобиль, они мягко проскользнули по подъездной дорожке, потом выехали на Шеридан-роуд, резко свернули у кладбища в сторону Эванстона, мимо чопорных и аккуратных жилищ среднего класса в пригородах Уилметт и Уиннетка. Паула идеально прошла опасные повороты холмов Хаббард-Вудс и оставшуюся часть пути проделала на большой скорости, не притормаживая.
– Мы называем это место Штормвуд, – сказала она Дирку. – И никто за пределами нашего милого семейства не знает, как это верно. Не хмурься. Я не собираюсь рассказывать тебе о моих семейных горестях. И не говори, что я сама напросилась… Как работа?
– Погано.
– Тебе не нравится? Я о работе.
– Нравится. Только… Видишь ли, когда мы заканчиваем архитектурный курс в университете, нам представляется, что все мы станем Стэнфордами Уайтами