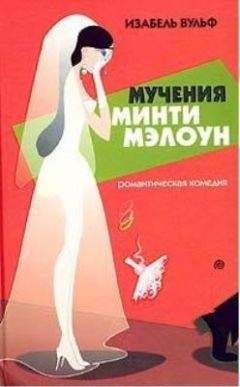десятилетнему возрасту и сам время от времени робко упоминал о сложностях жизни с мамой. Как и об ее суровом католическом благочестии (не то чтобы он объяснил мне это жестами). И о том, как она заставляет его ходить с ней в церковь каждое воскресенье – эти пытки он описывал как нечто похожее на Седьмой круг ада (и не то чтобы ссылался на Данте). Ему нравилась мама, когда она сбрасывала с себя эту жесткость и становилась веселой и счастливой рядом с ним; когда ею не правили демоны.
Или, по крайней мере, такое мнение сложилось у меня из рассказов Итана.
Как и полагалось в эту зарождающуюся эру цифровых коммуникаций, у Итана теперь тоже был лэптоп, и Джессика показала ему, как подключить телефонный шнур к розетке на стене и набрать номер, а затем написать электронное письмо папе в Париж, на которое его отец мог ответить, как только окажется в Сети. Итан теперь был высоким, стройным мальчиком, свободно владел языком жестов, хорошо читал по губам и становился все более уверенным в письме. Когда я находился по ту сторону Атлантики, он писал мне по одному электронному письму каждое утро (ко мне они приходили сразу после полудня), еще одно вечером (и оно поджидало меня, когда я просыпался на следующий день). Прошлым летом, после долгих лет юридических споров, Ребекка наконец смягчилась и согласилась на то, чтобы он провел со мной в Париже время с середины июля до середины августа. Я пригласил Клару в качестве его няни на первые две недели, пока работал до закрытия нашего офиса (как и большинства других в Париже) на каникулярный последний месяц лета.
Я обнаружил, среди прочих, еще одну поразительную особенность глухоты: она делала Итана сверхчувствительным на многих других уровнях. Скажем, хотя он не мог слышать ничьих голосов, и его мир оставался безмолвным, в Париже его совершенно не сбило с толку то, что все вокруг было на другом языке (правда, его неспособность читать по «французским» губам огорчала). Во время своего первого приезда в Париж он смотрел на все широко распахнутыми глазами. Я видел, как он привыкает к эпической природе этого города, его размаху и величию, его расстояниям и уютным кварталам. Он узнавал булочную, где мы каждое утро покупали его любимый pain au chocolat 138. Он был очарован метро. Пока я работал, он совершил вместе с Изабель прогулку на кораблике по Сене, и после этого доложил мне, что «Изабель очень милая». Но кого он обожал, так это Эмили, – она водила его на представление в театре марионеток в Люксембургском саду, на Эйфелеву башню и в зоопарк в Булонском лесу – словом, показывала все туристические парижские штучки, которые я всегда обходил стороной… но для моего девятилетнего сына они значили целый мир.
– Можно мне жить здесь? – спросил он, когда в конце лета пришло время возвращаться в Нью-Йорк.
– Тебе бы этого хотелось?
– Я бы хотел, чтобы мы все жили вместе… с мамой.
Это заявление не удивило и не обескуражило меня. Просто опечалило. Потому что я знал, что разочарую своего сына, сообщив ему, что это невозможно; что, хотя у него всегда будут мать и отец, которым он бесконечно дорог, его родители больше никогда не будут вместе. Когда я наконец объяснил ему, что, увы, у нас нет никаких шансов на примирение, он ответил:
– Может быть, вы с мамой снова полюбите друг друга.
Я тщательно подбирал следующие слова.
– Это прекрасная идея, Итан, но обычно так не бывает, когда люди решают, что им лучше жить отдельно. И все же сейчас у нас все хорошо. И посмотри, как блестяще ты учишься в школе. Клара и Джессика считают тебя асом.
– Но мама иногда грустит.
– Ты в этом не виноват, Итан. Если кому-то грустно, это его обязанность – изменить все к лучшему для себя. Даже если ситуация сложная.
– Но я хочу хэппи-энда, папа.
На что я мог только подумать: «Разве не все мы этого хотим?»
Но ирония была неуместна в тот момент. И я сказал:
– Мы с тобой счастливы вместе, Итан.
– Это когда-нибудь изменится? Уйдет ли счастье?
– Между тобой и мной? Никогда.
– Но ведь счастье может уйти, разве не так?
Я решил не подслащивать пилюлю.
– Да, может, – ответил я.
И спустя несколько дней счастье подтвердило мои слова.
Когда все рассыпается, сердцевина не держит. Жизнь может создавать абсолютную видимость относительной стабильности. Спокойной уверенности. Легкого плавания и всего прочего. А потом где-то возникает серьезный перекос и обнаруживается, что облицовка-то хрупкая, как яичная скорлупа, и все рушится на глазах, так что становится ясно: в жизни нет никакой определенности. Только отчаянная музыка случайности.
Две тысячи первый год вступил в Париж легкой снежной пылью. Итан вернулся в Нью-Йорк двумя днями раньше, а до этого провел со мной Рождество. Он впервые совершал перелет в одиночку, хотя я договорился с «Эйр Франс», что его будет сопровождать на борту и после посадки кто-то из их персонала. Итану было уже двенадцать, и он сообщил мне, что хочет отправиться в самостоятельное трансатлантическое путешествие. Я спросил совета у Клары и Джессики. Они обе чувствовали, что он вполне готов. И его мать по электронной почте тоже не выразила никаких возражений. Я встретил его в аэропорту Шарль де Голль 22 декабря, а провожал обратно восемь дней спустя, наблюдая, как сотрудник авиакомпании (проинформированный о глухоте Итана) надевает ему на шею специальную сумочку с сопроводительными документами и надписью «несовершеннолетний без сопровождения» после того, как проверили его ручную кладь. Затем мы все проследовали к пропускному пункту проверки безопасности. Итан крепко сжимал мою руку.
– Две недели? – бегло жестикулируя, спросил он.
Этот язык стал таким привычным для него. Равно как и чтение по губам. Но, несмотря на множество медицинских консультаций и хирургическое вмешательство три года назад, когда ЛОР-хирург предположил небольшую вероятность того, что имплантация новомодного слухового аппарата в канал внутреннего уха может позволить ему различать звуки (процедура оказалась на редкость неудачной), не оставалось никакой надежды на то, что у Итана появится шанс окунуться в мир звуков. После операции мне пришлось объяснить сыну, что процедура не дала того результата, на который все мы надеялись; что его положение никогда не изменится; но тем не менее он блестяще справляется и будет и дальше жить замечательной жизнью.
– Но я закрыт от многого, – написал он мне позже по электронной почте. – Никакой