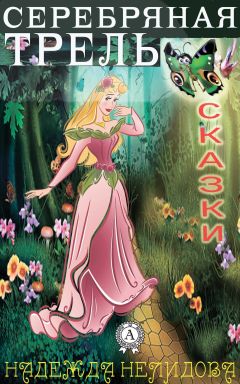Зазвонил телефон — один, два, три раза. «Кто-нибудь возьмет наконец трубку?» — крикнул Уго откуда-то из глубины дома, но раздался еще один сигнал — и наступила тишина. Затем снова полетели звонки. Уго быстрым шагом, бормоча ругательства, вошел в кабинет и схватил трубку прервав трель на середине. «Да, слушаю», — сказал он, еще до того как трубка поднялась до уха, сказал нетерпеливо, почти грубо, выливая на звонившего всю свою злость за то, что здесь, дома, кто-то не удосужился или не смог вовремя ответить на звонок.
Однако на смену вспышке раздражения тотчас пришло выжидательное и вполне миролюбивое молчание. Несколько секунд Уго не произносил ни слова, сосредоточенно глядя в одну точку и нахмурив брови. «Как?.. Нет, понятия не имею… — наконец произнес он неуверенно, делая долгие паузы между словами. — Не знаю… Честно, не узнал… Чтобы вот так, с ходу…» Тон у него сделался осторожным, недоверчивым, хотя рука алчно сжимала трубку. «Кто?..» — заговорил он более решительно, уже начиная заводиться, но вдруг как-то сразу осекся, и тотчас тон его переменился. «Ах, Ньéвес! Ну конечно… Конечно… Да и голос все тот же, прежний… Нет, это ты меня прости, дело в том… Кто бы мог подумать! Сколько лет, сколько зим… Да, разумеется, мы сталкивались на улице, ты ведь живешь недалеко… Да, несколько раз я видел тебя, правда мельком. Да, с детьми… Так что, получается, я все про тебя знаю…»
Уго продолжает говорить рваными фразами, делая паузы, чтобы выслушать реплики, идущие с другого конца провода. Он явно успокоился, держится любезно, но, пожалуй, несколько развязно; и пока он ведет беседу, его рассеянный взор останавливается то на рисунке в рамке, который висит рядом с окном, то на деревьях и крышах за окном. Губы складываются в легкую ироничную улыбку, а в глазах то и дело вспыхивают коварные огоньки любопытства.
«Нет, разумеется… Лет пятнадцать, не меньше… Черт! Как время-то бежит! И чем обязан?..» Уго надолго замолкает. Сперва начинает едва заметно раскачиваться вперед-назад, потом замирает. Смотрит в окно, повернувшись спиной к той двери, через которую недавно вошел. «Ох, совсем забыл, — произносит он наконец. — Нет, прости, все помню, разумеется, помню. Часто вспоминаю, я хотел сказать: забыл точную дату, нет… Неужели так скоро? Прямо вот-вот…»
Уго медленно оборачивается; его движения сделались более плавными, а взгляд — более задумчивым. Он снова уставился на висящий на стене рисунок и долго не отрывается от него. За все это время он не проронил ни звука. Но тут Уго что-то замечает краешком глаза. В дверях, опершись о косяк, стоит его жена Кова. Уго несколько секунд смотрит ей прямо в лицо, смотрит равнодушно и безучастно, так как сосредоточил все свое внимание на том, что говорит ему невидимая собеседница. «Да, да… я тебя слушаю, — произносит он, словно спохватившись, и снова поворачивается к Кове спиной. — Ну да! Конечно… еще бы… но… в этом было много ребячества… Мы были тогда совсем зеленые…» Уго неуступчиво мотает головой, открывает рот, собираясь возразить, но все-таки сдерживается, потом улыбается с легким пофыркиваньем, снова пытается что-то сказать, но не успевает — только опускает веки и наконец подает голос: «Нет, конечно, это может получиться довольно забавно… Да… да… Послушай! Может получиться интересно… Да, да, посмотрим… А ты думаешь, они приедут? Чтобы столько людей… в определенный день… Даже так? В субботу? Это число приходится на субботу? Да, да, очень удачно… Да, все…»
Паузы между его репликами становятся длиннее, словно с другого конца линии теперь поступает более важная и конкретная информация и можно забыть о том обмене дежурными любезностями, с которого начался разговор. Затем повисает продолжительное молчание, и лицо Уго меняется: с губ слезает ухмылка, черты теряют жесткость, расслабляются, а взгляд словно обращается внутрь — это взгляд человека, которого по-настоящему волнует только то, что он сейчас слышит. И тут у него вырывается какой-то непонятный горловой звук — его запросто можно принять за знак согласия; Уго снова поворачивается к двери, но Ковы там уже нет; он еще какое-то время молча слушает, хмурится и наконец произносит совсем иным тоном, куда более неуверенным и даже растерянным: «Ты… с ума сошла, нет… Он не приедет…» И снова замолкает, внимая собеседнице.
После недолгой паузы в его голосе проскальзывает нетерпение, как бывает, когда человек хочет поскорее закруглить разговор: «Да… ладно… да, да… В принципе, почему бы и нет… но я должен обсудить с… Не знаю, надо посмотреть, не намечено ли чего на этот день… Да, так будет лучше, я тебе позвоню… Нет, честно, позвоню заранее. В любом случае мне надо убедиться… Договорились, я позвоню тебе по этому номеру, да, по этому номеру. Мобильный?.. Диктуй… Подожди, сейчас вобью его в память».
Уго резко тыкает в кнопки мобильника, потом прощается, произнося привычные формулы вежливости, сует мобильник в карман, кладет трубку домашнего телефона на рычаг и долгим взглядом смотрит на аппарат — пристально, задумчиво, не мигая.
— А это кто еще на твою голову свалился?
В дверях снова появилась Кова — стройная, изящная женщина в джинсах и футболке — простых на вид, но, безусловно, совсем не дешевых. Кова выглядит весьма элегантно, и, хотя на лице ее не заметно макияжа, судя по прическе, она немало времени провела в парикмахерской. Кова продолжает стоять на пороге, дожидаясь ответа. Но он лишь что-то бурчит себе под нос и досадливо кривится. Потом трет рукой лоб, как человек, столкнувшийся с обременительным и неприятным делом.
— Ладно, не хочешь — не говори, мне, собственно, это не так уж и важно, — бросает Кова сухо и делает вид, будто собирается уйти. — Я же вижу, что для тебя тут какая-то…
— Нет, нет, подожди, пожалуйста, это и тебя тоже касается.
— Надо же! Ну раз уж это касается и меня тоже, потрудись все-таки объяснить…
— Знаешь, давай не будем… — На лицо Уго наплывает усталая гримаса. — Не будем ссориться из-за пустяков. Дело в том… дело в том, что тут нужно много всего объяснять, много такого, что ты вряд ли сочтешь интересным и…
— С каждым разом тебе становится все труднее объяснить мне что-то про свои дела…
— Ага! Точно! Хотя, как учат на курсах «личного роста» или как говорится в последнем учебнике по самовоспитанию, который ты штудировала, следует непременно обсуждать с мужем все, пережитое за день, да? Ну давай же, давай, действуй, улыбнись пошире… Разве в этих книгах не написано, что следует день-деньской ходить с дурацкой улыбкой во всю рожу, чтобы настраивать себя правильным образом? Позитивно!
— Твои наскоки с каждым разом становятся все грубее…
— Это вовсе не наскоки, дорогая, это форма защиты, я пытаюсь защититься…
— Ты ведь отлично знаешь, что я сходила на курсы «личного роста» всего один-единственный раз, чтобы только посмотреть, чтобы узнать, о чем, собственно, речь, и сразу тебе сказала: мне там не понравилось.
— Ну конечно! А кому пришлось вносить плату за целый месяц? Кому? Чужому дяде?
— Ну наконец-то ты заговорил о главном. Деньги! Деньги — вот самое важное для человека, который… который с пеной у рта твердит, будто он далек от всего материального.
Кова уже не стоит в дверном проеме — по мере того как разгорается ссора, она все ближе подходит к Уго. Он же тем временем успел сесть в кресло перед телефоном и всем своим видом изображает полнейшее равнодушие.
— Знаешь, я не был бы таким материалистом, — отвечает он, слегка поведя головой в ту сторону, где стоит Кова, но избегая глядеть на нее прямо, — если бы кое-кто тоже приносил в дом свое жалованье, пусть даже совсем мизерное…
— Так! Опять этот прокурорский тон! Нетрудно догадаться, что теперь последует: пришла пора напомнить, что актером ты не стал исключительно по моей вине, а потом с гордостью заявить, что ты-то всегда был мне верен… Есть чем гордиться!
Последнюю фразу Кова произносит, дав волю негодованию и едва сдерживая слезы. Уго же, наоборот, как будто еще больше успокаивается, по крайней мере всеми силами старается это показать.
— Ты вечно стремишься изобразить меня в карикатурном виде. А ведь и я мог бы ответить тебе тем же: стоит вспомнить, например, Еву Уилт[1] — и сходство будет налицо, но, к сожалению… мы существа куда более сложные.
— Опять ты уводишь разговор в сторону, опять прячешься за своей логикой и своей… невозмутимостью, будь она неладна. Ты сам прекрасно знаешь, что не смог стать актером только потому, что кишка была тонка, ведь за это надо было бороться… А ты струсил, побоялся, что не сумеешь добиться успеха. Да, именно, не бедности ты побоялся и не богемной жизни, как ты любишь повторять…
— Перестань ради бога, Кова, ну сколько раз мы с тобой это обсуждали, — перебивает ее Уго, в первый раз меняя линию поведения: голос его, во всяком случае, становится злым и мрачным.