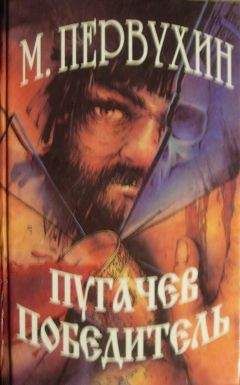— Одначе, тетки моей покойной, Лизаветы, армия этого немчуру тоже не однова причесывала разлюбезнейшим манером. Кабы не я, то быть бы ему карачун... Но ты, пан, между прочим, полегче бы выражался-то! Нашему царскому величеству король пруцкой хоша и дальний, а все же сродственник. Опять же никто из государей на наше правое дело внимания не обратил, а он, пруцкой, цидулку-таки прислал. Любезным братцем величает!
Поляк потупился. Тогда снова вступил в разговор Зацепа, сказав:
— По антиллерийскому делу, двистительно, нам польза может оказаться. Пушкарей у нас немало, да больно зря палят часто. По чему попало шпарят, а насчет дистанциев мало смотрят. Ежели ты, пан, в сам деле послужить хочешь, то так и быть, его царское величество может тебя своей милостью подарить...
— А что ты думал?.. — откликнулся Пугачев, потягиваясь. — Пущай старается!
— Послать его к Тимош... к князю Барятинскому, что ли ча? — осведомился Зацепа.
— Валяй. Пущай сговариваются, как и что... Может, и впрямь, насчет казанкова кремля что сварганят...
Сделав свирепое лицо, опять обратился к поляку;
— А ты, пан, того... Смотри, говорю! Я, брат, сам с усам. Чуть что — с живого кожу сдеру, а мясо псам скормлю:
— Ну, иди!
Позванные Зацепою-Путятиным часовые вывели поляка. Он был бледен, на лбу виднелись капли пота, но под лихо закрученными усами играла довольная улыбка.
— Пора бы и кончать! — вымолвил ворчливо Пугачев. — Спать чтой-то хотца...
— Надо раньше энтого... сокола залетного допросить «Дружки» пишут, что, мол, внимания заслуживат...
Начался допрос стоявшего до тех пор в стороне молодого белокурого человека. У него было плоское, чисто славянского типа лицо с мелкими, по-своему приятными для глаза чертами, ровно подстриженная бородка, отливавшая красниною, жиденькие усики, нос луковкой и серо-голубые глаза, смотревшие на окружающее с наивным любопытством.
— Ну, парень, докладывай! По какому такому государственной важности делу решился ты потревожить его царское величество? — начал Зацепа.
— Желая принести посильную пользу народам, населяющим российскую империю, — зачастил явно заученную речь белокурый, — решился я, преодолевая многие трудности и пренебрегая опасностью для живота моего, обратиться к его царскому величеству с меморией, сиречь, докладной по государственным делам запиской...
— Из подьячих, что ли? — небрежно осведомился Пугачев. И покосился в ту сторону, где за не доходившей до потолка тесовой перегородкой находилась новая «полоняночка». Ему показалось, что кто-то там, за переборкой, всхлипнул... Наморщил брови.
— А ни боже мой! — запротестовал белокурый. — Мы по купечеству...
— Из шкуродралов, значит? Так! Ну, докладывай!
— С малых лет задумываясь о том, как бы полутче устроить все в российском государстве...
— Эвона, куда махнул?! — добродушно изумился Пугачев. — С малых лет хорошо в бабки, а то в городки играть... Ну, послухаем...
— Возлюбя всяческие науки...
— Поди, драли?
— Стремился я к расширению моего умозрения.
— А ты покороче! Что мне с твоего умозрения?
— Размышляя о причинах нестроения в российском государстве, нашел я оные причины в несоответствии государственного строя с законными вожделениями самого населения, которое, будучи от природы награждено острым умом, издревле стремится к прекращению тиранских поступков своих правителей...
— От Катьки да от ейных полюбовников, дистительно, многие тиранства идут! — качнул головой Пугачев. — Она, немка, нашего первородного, можно сказать, сыночка и наследника свят-отеческого престолу правов лишить замышляет. Собирается, говорю, на престол-то святой какого-то своего полюбовника посадить... Но мы ей бока огладим, рога пообломаем. Мне цесаревич и то пишет: «Долго ли, мол, тятя, буду я терпеть злое тиранство маменькино и ейных полюбовников»...
Опять Зацепа предостерегающе крякнул.
— Располагая неким достатком, сиречь денежными средствами, с согласия родительницы моей отправился я три года тому назад в заграничные земли, дабы изучить тамошние порядки.
— Ничего хорошего там нет! — вымолвил Пугачев. — У нас лутче. Люди сытнее едят... Ну, договаривай, парень. Только поторапливай! А то мы должны еще важным делом заняться.
Он покосился на перегородку.
— Изъездивши многие страны, нашел я, что наибольший порядок имеется у короля шведского в его королевстве. А почему сие? А потому, что права королевские там ограничены.
— То есть, как это? — полюбопытствовал Пугачев.
— Имеется у них, шведов, наподобие нашего Сената — рыксдаг, то есть представительная палата. Само население выбирает в оный рыксдаг депутатов. Коих выбирает благородное сословие, коих духовенство, а коих градское сословие, сиречь бюргеры...
— Ты это к чему, парень? — воззрился Пугачев.
— И король шведский не имеет права без согласия рыксдага новые подати да налоги вводить, армию уменьшать или увеличивать, а буде ежели пожелает с кем войну вести, то должон предварительно о том советоваться...
— Это нам плевое дело! Без совета с министрами и Катька ничего не делает...
— И будучи в Штокгольме-городе, того королевства столице, узнал я от верных людей, что такое у них намерение имеется, чтобы королевской власти совсем не было…
— Корольку своему, значит, перо вставить хотят? — обрадовался Пугачев. — Здорово! Пущай их!
— А намерены они, шведы, чтобы заместо короля наследственного да был у них государству начальник по народному выбору и был бы его правам срок, скажем, в три или четыре года...
— А потом как?
— А потом население нового начальника государству выбирает...
— Народишко-то? — изумился Пугачев. — Ой, парень, брешешь ты что-то! Как же это можно, чтобы народ нам кого в правители выбирал? Да где же это видано? Царь, так царь, чтобы божьею милостью... Опять же, помазанный на царство... А как почнут выбирать, то будут только булгачить...
— История нас учит, что в древности многие государства по целым столетиям без царей обходились. Это республика называется...
— Как это?
— К примеру сказать у эллинов, сиречь древних греков, так было.
— У пиндосов? Нашел кого в пример ставить?! То-то их турка и прищемил. И пищать не смеют...
— Было сие также у древних римлян до кесарей!
— А нам-то что от того? Мало кто с ума сходил?! — засмеялся Пугачев. — Ну их, твоих пиндосов, к ляду. Ты лутче вот что... С которого, гришь, городу?
— Из города Серпухова.
— Есть такой! Знаем! Бог поможет, приведем и Серпухов под нашу высокую руку... А пока что брось ты, парень...
— Что бросить?
— Языком молоть. Ни к чему это! А ежели ты нашему царскому величеству служить желаешь, то бери-ка, скажем, ружье, а то хоть пику. Конька какого там дадут станишники...
— Я верхом не могу! — смутился белокурый.
— Свалиться боишься, что ли? Как мерзлые штаны на заборе, так ты на лошади? Ну, валяй к пехтуру!
— В солдаты?
— А чего нет? Вымуштруют, небось! Дело не мудрое. Не в енаралы же тебя сажать?
— Я на то призвание не имею!
— Какое такое призвание? В дьячки что ли мостишься? Так дьячки нашему величеству сейчас без надобности...
— Я полагал, для разрешения важных государственных вопросов... Будучи знаком с иностранными порядками...
— Брось! Рылом не вышел!
Пугачев поднялся и решительно сказал:
— Ну, будет языки чесать, а то волдырь вскочит. Убери ты его, граф. Наш канцлер вчера мне все уши протурчал, что, мол, в походной канцелярии писарей не хватаеть. Приткни его туды.
— Ваше вели...
— Нишкни. Законы писать вздумал? Царь выборный да еще на срок тебе нужен? Городишь ты чушь, парень: ну тебя...
— Да я...
— Уходи, пока цел! — нахмурился Пугачев. — Царя ему выборного захотелось?!
— Прирезать его что ль? — осведомился равнодушно Зацепа.
Белокурый помертвел.
— А хоть и веревкою удави! — ответил Пугачев, зевая и торопливо крестя рот. — Ему, сукиному сыну, царя выборного понадобилось...
Остановился. Вспомнил, что серпуховец пробрался в Чернятинский стан с письмами от разных далеких «дружков».
— С Рогожского кладбища кого знаешь? — осведомился он у начавшего от смертельного испуга икать серпуховца.
— Отца… отца… отца...
— И сына, и святого духа! — смеясь, вымолвил Зацепа.
— Отца Варнаву...
— Варнаву знаешь? — удивился Пугачев.
— Он… грамотку... дал!
— По ошибке должно! Не думал, что ты дурак такой. Ну, черт с тобой! Ради Варнавы, душевного человека... Гостил однова у него. Живи... Сдай его, граф, господину нашему канцлеру, пущай подметные грамотки пишет...
Выждав, когда Зацепа увел серпуховца, еле передвигавшего ногами и все еще икавшего, Пугачев направился за перегородку. Оттуда донесся его голос:
— Ну, ты, гладкая! Чего в угол забилась? У-уй, горячая какая... А сними-ка ты с меня сапоги. Так. Теперь ложись. Да не вздумай реветь, дуреха... Съем я тебя что ли. Да рубашку сними с себя!
Громоздкая деревянная кровать заскрипела под тяжестью двух тел...