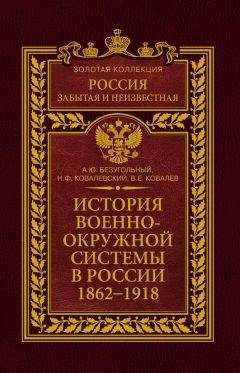А тут еще пожаловал и Степан Воропаев...
Теперь ждал комиссара, горбился за столом, подпирая лоб жестким, мослаковатым кулаком. Время было позднее, лампа с выгоревшим керосином уже чадила, у дешевого, картонного абажура медленно обугливалась середина, воняло жженой бумагой... Миронов и сам понимал, что эта война слишком развязала безотчетную злобу человеческую, что рано или поздно придется ее укрощать, гасить силой власти. Но только слепое сердце могло не почувствовать, что в той большой судьбе, которая вела Россию по терниям и крови, в великой трагедии революции, всеобщего передела и великого поиска путей, развивалось нечто тайное, до поры невидимое простым глазом, либо непонятное по сути, но смертельно опасное и для народа, и для самих революционеров, тот почти молчаливый сговор темных людей, не только «лица не имеющих», но прячущих и лицо, и свои действия за эту самую «неразбериху», этот «круговорот зла»... Без открытой идеи, без принципов, без честного обязательства перед народом, все — тайно...
Один Виктор Семенович Ковалев мог тут помочь ему. Помочь разобраться, наконец, посоветовать, как написать письмо в ЦК партии или Сокольникову в штаб фронта.
Что ж, он сам во всем доверял Ковалеву, уважая с той самой минуты, как увидел в мае прошлого года, за всю его трудную, тюремно-каторжную судьбу, за неожиданно высокую культуру, полученную в подполье и тюремных университетах, за широту взглядов. Кроме того, все видели, что Ковалев болел душой за народ, за его судьбу, он думал осчастливить людей — это пока оставалось мечтой, но зато было мечтой всей его жизни. В его речах на митингах всегда разъяснялся больной вопрос: как должна строиться общественная жизнь на земле после революции, и нельзя было не разделять его взглядов. Комиссару Миронов доверял как самому себе. И ждал его.
Но вошел к нему в этот час Николай Степанятов, вошел без приглашения, и остановился перед столом, вытянув руки по швам, с напряженным до окостенения лицом. Звездочка фуражки кроваво рдела в тусклом ламповом свете, тень от козырька падала на глаза. Скрипнув голосом, быстро снял фуражку, и Миронов сначала не мог взять в толк, о чем он говорит:
— Не знаю, как и сказать, Филипп Кузьмич... Принято говорить: мужайся. Беда страшная и непоправимая для нас, для тебя лично...
Степанятов всегда называл Миронова из большого уважения на «вы», и теперь странным было это простецкое «для тебя лично»…
— Что такое, Николай? — Миронов устало убрал со стола локти и откинулся на спинку, будто ожидая удара. Предчувствие уже коснулось холодком его сердца. — Что такое?
— Беда! Валя... Валентина Филипповна погибла в дороге на Царицын, еще тогда. Таня пишет из царицынской больницы...
Фитиль лампы коптел, на потолке уже накопился круг желтой гари. Надо было открыть фортку, потому что сразу нечем стало дышать.
— Валя?! Что? Как же это? Где?
— Только сейчас — письмо. Таня Лисанова пишет: перехватили поезд тогда под Котлубанью и какой-то сопляк, реалист, опознал Валю. Всех погнали в станционный пакгауз, избили, а Валентину Филипповну вместе с «евреями и комиссарами», как они говорят, расстреляли в ближнем яру... — Степанятов перевел дух и договорил: — Недавно дивизия Колпакова отбила арестованных, Таня пишет из больницы, из Царицына.
— Значит, тогда еще — с поезда? — зачем-то спросил Миронов, почти не разжимая зубов.
— Могила эта, братская, недалеко от станции... Можно найти, — сказал Степанятов и замолк. Больше нечего было говорить.
— Съездить надо... — замычал Миропов, как от физической боли, вдруг охрипнув, потеряв голос. — Съездим обязательно, как только возьму Новочеркасск. Сразу же! — и слепо зашагал к двери, закрыв лицо ладонями, ища одиночества в эту непоправимую и страшную минуту.
Ничто так не проясняет сущность человеческую, как время и — власть, если таковая даруется человеку.
Сергей Сырцов, молодой человек с дородным, барственно-пухловатым, округлым лицом, женскими мягкими губами и острым, пронзительным взглядом, в свои двадцать пять лет делал головокружительную карьеру. От природы неглупый и смелый человек, в меру циничный (и так «хорошо» и этак «не плохо»), он считался в Ростово-Нахичевани неплохим работником. Но старые, опытные подпольщики знали Сергея как «болтающегося» меж двух стульев человека, желающего быть «при политике» и все же относительно легко выпутывающегося из сложных перипетий. Он прислонялся без особых колебаний к большинству, какое бы оно ни было. Вступал в партию он как большевик, а после Февральской революции горячо выступил «за примирение с меньшевиками и коалицию» (за что получил звание правого коммуниста), но по брестскому вопросу выступил прямо против Ленина, поскольку Ленин на какое-то время был в меньшинстве, и определился в «левые».
Он стал самым левым из «левых», но при этом ему очень везло. Еще в ссылке он близко сошелся с одним видным «межрайонцем», а на Каменском съезде «влез в душу» московскому представителю Мнадельштаму и стал после этого одной из популярнейших партийных фигур на Дону. На I съезде Советов Донской республики его избрали заместителем Подтелкова, так что по преемственности (и в связи с болезнью Ковалева) Сырцов оставался теперь во главе той группы, которая олицетворяла бывший совнарком Дона.
При взгляде на его самодовольное, несколько напыщенное лицо Ковалев с грустью подумал, что самое худшее, что может себе позволить буржуазная бюрократия — протекционизм, стало по странной случайности уже проникать и в советский обиход. Да. Только этим и следует объяснять высочайшие полномочия этого юнца...
Ковалев, выехавший дня через два после тяжелого вечернего разговора у Миронова в Урюпинскую для проверки фактов, очень скоро понял, что с продкомом Гольдиным, психически неуравновешенным человеком, у него никакого разговора не состоится. Тот кричал разные глупости, вроде того, что «спустим с казачков шкуру за девятьсот пятый годок!», как будто «нагаечники» не скрывались нынче за линией фронта, а мирно дожидались расправы дома, балакая о том о сем на общих собраниях! Хорошо уже то, что он. Гольдин, подсказал Ковалеву, как скорее найти самого товарища Сырцова, который, оказывается, прибыл из штаба фронта по делам в Воронеж, а потом спустился даже в Лиски... Поезда ходили «ни трех ногах», Ковалев добирался целую неделю.
С Сырцовым они были знакомы с весны прошлого года, по Ростову, вместо проводили съезд Советов. И Сергей обрадовался Ковалеву, бросился даже обнимать. Но тут же отпустил, испугавшись слабости и худобы старого своего товарища по ЦИКу.
— Хорошо воюете, братцы мои, прямо молодцы! — потирая руки после внезапного смущения, улыбаясь и разбрызгивая вокруг шумную радость, скалил прекрасные, ровные зубы Сергей. — Молодцы! Я краем уха слышал, что твое представление к награде Блинова орденом уже принято! Так что в скором времени готовьтесь. Миронову тоже выпадает кое-что...
Ковалев сидел за столом, медленно разматывая с исхудавшей шеи старый пуховый шарфик, расстегивая петли полушубка, а Сырцов с молодой горячностью брал листки бумаги из кипы на правом углу стола и, прочитывая из них главное, откладывал налево:
— Вот! В ЦК шлем одни победные реляции! Кхе... Телеграфно, вне всякой очереди. «...Семь станиц во главе с Вешенской подняли восстание против Краснова, перебили офицеров. 5 января 1919 года станичный сбор Вешенской постановил послать делегатов в полки для переговоров по поводу перемирия с красными! Семь полков постановили послать делегации к Миронову для выработки условий сдачи оружия...» Каково? — сверкал глазами Сырцов. — А вот еще некоторые частности: «На фронте 8-й армии к 23 января сдалось 3000 казаков, взято 31 орудие, 115 пулеметов, 3 броневика...» Ну и так далее... Что скажешь?
— Могу порадоваться, — сказал Ковалев. Внимательно оглядел торжествующего Сергея и добавил, как бы размышляя: — Порадоваться, конечно! И не только тому, что хорошо воюют наши армии, а и тому, что, значит, хорошую память мы с тобой оставили по себе на Дону в апреле, если теперь казаки с такой охотой к нам переходят! Конечно, мобилизация есть мобилизация, но вот отведал народ красновской каши и — больше не хочет. Говорят, при Ковалеве, Подтелкове и Сырцове лучше было! Меньше и хлеба выгребали, и с-под нагана в полки не гнали, одним словом — своя, Советская власть!
Сырцов несколько не того ожидал, куда-то в сторону его повело рассуждение бывшего председателя Донского ЦИКа. Он засмеялся:
— Да брось ты, Виктор Семенович! Конечно, какое-то зерно в твоих словах можно усмотреть, но... главное не в том! Главное, набили вашим казачкам зад, вот и весь секрет, если хочешь знать! А не было бы Красной Армии, так они б и до Москвы поперли, не остановились!
Ковалев с удивлением перевел дыхание. Погладил вытянутые под столом, гудевшие от усталости ноги в тесных валенках и несогласно покачал головой: