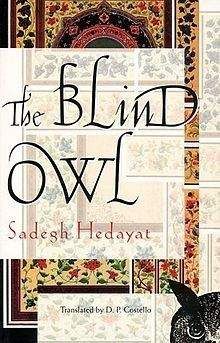Я в страхе прижался к стене. Голоса их как-то по-особенному разносились в воздухе… понемногу голоса стали удаляться и затихли. Нет, им не было до меня никакого дела, они ведь ничего не знали… Тишина и мрак снова охватили все вокруг, я не стал зажигать масляный светильник, мне было приятно сидеть в темноте. Темнота — это густая текучая масса, которая повсюду и во все проникает. Я к ней привык. Именно в темноте снова оживали мои утраченные мысли, мои забытые страхи, ужасные, неправдоподобные мысли. Сам не знаю, в каком уголке моего мозга они прятались. Они оживали, бежали, строили мне гримасы. Углы комнаты, края занавесок, щели двери — все наполнялось этими мыслями, бесформенными, угрожающими образами…
Там, у занавески, сидело страшное существо, не двигалось и было не грустно и не весело. Каждый раз, когда я поворачивался к нему, оно смотрело мне прямо в глаза. Облик его был мне знаком, точно бы я его видел в детстве. Однажды, тринадцатого фарвардина, когда, по поверью, во избежание несчастья надо всем уйти из дому, я играл в прятки с другими детьми на берегу канала Сурен и увидел там это самое существо. Я увидел его среди детей, и оно показалось маленьким, смешным, безопасным. Это лицо было похоже на лицо мясника из лавки напротив нашего дома. Этот человек, кажется, сыграл большую роль в моей жизни, как если бы это была тень, появившаяся одновременно с моим рождением и постоянно присутствующая в ограниченном круге моей жизни.
Когда я встал, чтобы зажечь светильник, эта тень сама собой растворилась и исчезла. Я подошел к зеркалу, пристально вгляделся — отражение в нем показалось чужим, и это было неправдоподобно и страшно. Мое отражение стало сильнее меня, а я стал точно бы отражением в зеркале, и у меня появилось такое чувство, что я не могу находиться в одной комнате со своим отражением. Я боялся, что, если побегу, отражение бросится за мной, и я сидел с ним неподвижно лицом к лицу, как сидят две кошки, готовые подраться. Я только поднял руки и закрыл ими глаза, чтобы в глубине ладоней обрести вечную ночь. По большей части ужас порождал во мне особое наслаждение, упоение — такое, что голова кружилась, колени слабели, меня тошнило. Неожиданно я ощутил, что стою на ногах — было мне странно, удивительно, как это я мог стать на ноги? Мне показалось, что, если я двину ногой, я потеряю равновесие. Как-то особенно закружилась голова, а земля и все сущее на ней показались бесконечно далекими от меня. Я смутно желал землетрясения или молнии небесной, чтобы снова войти в мир покоя и света.
Потом я решил снова лечь в постель и про себя все повторял: «Смерть, смерть…». Губы мои были сомкнуты, но я боялся своего собственного голоса, прежняя смелость меня совершенно покинула. Я стал как те мухи, которые в начале осени прячутся в комнатах, сухие, безжизненные мухи, боящиеся собственного жужжания. Сперва они неподвижно облепляют стены, затем, почувствовав, что еще живы, начинают дико биться о стены и двери, и их трупики устилают пол по краям комнаты.
Веки мои стали смыкаться, и перед глазами возникал незримый мир. Мир, который весь создал я, мир моих мыслей и представлений. Во всяком случае, он был много более реальным, естественным, чем мир моего бодрствования. Как если бы пред моими мыслями и представлениями не было теперь никаких препятствий, а место и время утратили свою силу. Похоть умерла, та похоть, которая породила этот сон — порождение крайних нужд моего существа. Неправдоподобные, но естественные картины оживали передо мной. А когда я просыпался, в эту минуту я все еще сомневался в своем бытии, не знал ничего о своем местонахождении и о времени, так, будто все сны, которые я видел, — все их я создал сам и сам заранее знал их истолкование.
Прошла уже значительная часть ночи, когда я уснул, и внезапно я увидел себя на улицах незнакомого города с домами странных геометрических очертаний: призмы, конусы, кубы — с маленькими темными дверками и оконцами. Двери и стены всюду были увиты голубыми лотосами. Я свободно прогуливался там, легко дышал. Но жители этого города все умерли странной смертью: они застыли на своих местах, у каждого изо рта вытекли и упали на одежду две капли крови. Если я подходил к кому-нибудь и касался его рукой, голова его тут же отделялась от туловища и падала на землю.
Я остановился у двери мясной лавки и увидел там старика, похожего на оборванного старика, сидевшего всегда напротив нашего дома. Шея у него была замотана шарфом, в руке он держал нож и тупо смотрел на меня красными, воспаленными, точно лишенными век глазами. Я хотел взять у него из рук нож. Голова его отделилась от тела и покатилась по земле. В безумном страхе я бросился бежать: я бежал по улицам, и все, кого я видел, застыли на своих местах, я бежал и боялся обернуться и посмотреть назад. Когда я прибежал к дому моего тестя, брат моей жены, младший брат той потаскухи, сидел на скамье. Я сунул руку в карман, вынул оттуда два хлебца, хотел дать их ему, но, как только я к нему прикоснулся, голова его отделилась и покатилась по земле. Я дико закричал и проснулся.
Еще чуть светало, у меня бешено колотилось сердце, и было такое ощущение, будто потолок давит мне на голову, стены стали бесконечно толстыми, грудь моя хочет разорваться, а зрение помутилось. Некоторое время я лежал в ужасе, бессмысленно вперив взор в балки потолка, пересчитывал их, потом снова начинал их пересчитывать. Когда я плотно закрыл глаза, хлопнула дверь — пришла няня подмести мою комнату. Завтрак мой она поставила в другой комнате, на втором этаже. Я пошел на второй этаж, сел у окна. Отсюда, сверху, оборванный старик, сидевший всегда напротив дома, не был виден, только с левого бока я видел мясника, но его движения, казавшиеся из оконца моей комнаты страшными, тяжелыми и размеренными, отсюда, сверху, казались смешными и жалкими, точно бы этот человек совсем и не мясник, а только играет в мясника. Привели черных тощих кляч, по бокам которых висело по две бараньи туши, клячи кашляли сухим, глубоким кашлем. Мясник взялся жирными пальцами за ус, бросил опытный взгляд покупателя на туши, отобрал две из них, с трудом потащил и повесил на крючья в своей лавке. Наверное, когда он ночью гладит тело своей жены, он вспоминает эти туши и думает о том, сколько бы он мог выручить денег, если бы зарезал жену и продал ее мясо.
Когда кормилица кончила подметать, я вернулся в свою комнату и принял решение, страшное решение. Пошел взял в кладовой шкатулку, вынул оттуда свой нож с костяной ручкой, протер полой халата его лезвие и спрятал под подушкой. Это решение я давно принял. Я не знал, какая особенность в движениях мясника, когда он разделывал заднюю ножку бараньей туши, взвешивал ее и смотрел потом на нее с удовольствием, вызывала у меня невольное желание подражать ему. Я чувствовал потребность испытать такое же удовольствие… Из окна моей комнаты среди облаков был виден чистый голубой глубокий кусочек неба. Мне показалось, для того чтобы я смог туда добраться, мне нужно влезть на небо по очень высокой приставной лестнице. Край неба заслонили тяжелые желтые тучи, окрашенные смертью, они давили на весь город.
Стояла жуткая и восхитительная погода, не знаю, почему я все сгибался к земле, в такую погоду мне всегда хотелось думать о смерти. Но теперь, когда смерть с кровавым лицом и костлявыми руками схватила меня за горло, — только теперь я решился, принял решение увести с собой ту потаскуху, чтобы после моей смерти не говорили: «Прости его, господи, наконец-то он успокоился!».
В то время, когда я об этом размышлял, мимо окна моей комнаты проносили погребальные носилки, покрытые черным, на них стояла зажженная свеча. Возгласы «Нет бога кроме Аллаха» привлекли мое внимание. Все лавочники и прохожие выходили из лавок, сворачивали со своего пути, чтобы, по обычаю, пройти семь шагов за похоронной процессией. Даже мясник прошел семь шагов за покойником и вернулся в лавку. Но старик, торгующий хламом, не тронулся с места, не встал от своей тряпки. Какие у всех были серьезные лица! Может быть, они что-то знали о сути смерти и о потусторонней жизни? Кормилица, которая принесла мне лекарство, нахмурилась, сдвинула брови, перебирала крупные зерна четок, висевшие у нее на руке, и бормотала про себя молитвы. Потом она вышла из комнаты и отбухала за моей дверью несколько земных поклонов, громко восклицая: «О господи! О господи!».
Точно мне было предписано прощать всех живых! Но все это комедиантство не производило на меня никакого впечатления. Наоборот, я получал удовольствие от того, что эта чернь сама хоть на время, хоть ложно, но все же на несколько мгновений попадала в мой мир. Разве моя комната не была гробом, а постель не была холоднее и темнее могилы? Постель, которая всегда была расстелена и приглашала меня лечь. Сколько раз мне казалось, что я на погребальных носилках, а по ночам мне мерещилось, что комната уменьшается и давит меня. Не испытывают ли такие же чувства в могиле? Знает ли человек что-нибудь о том, что он будет испытывать после смерти?