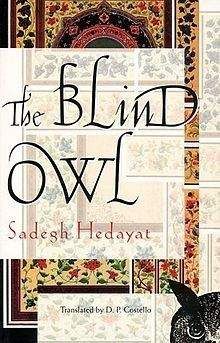В жизни есть муки, которые, как проказа, медленно гложут и разъедают душу изнутри. Об этих муках никому не поведаешь: большинство людей считает подобные страдания случайными или исключительными, редкими, а если кто и напишет о них или расскажет, то люди в соответствии с общепринятыми представлениями и собственными воззрениями воспримут это с насмешкой. Ведь человечество не нашло еще никаких средств, никаких лекарств против страданий и единственный способ забыться видит в вине и искусственном сне, который дают опиум или другие наркотики. Увы, действие подобных средств временно, и после некоторого облегчения и успокоения боль лишь усиливается. Но можно ли вообще постичь тайну этих неясных, необъяснимых чувств, это сумеречное состояние, появляющееся между смертью и воскресением, между сном и пробуждением?
Я хочу лишь поведать об одном случае, происшедшем со мной и так потрясшем меня, что мысли о нем не покидают моего сознания: отвратительная рана от него, пока я жив, хотя это и трудно объяснить, будет постоянно отравлять своим ядом мое существование. Я написал: «своим ядом», но на самом деле хотел сказать, что это клеймо я всегда ношу и буду носить на себе.
Я постараюсь воспроизвести все, что сохранила моя память, все, что связано с этим событием, и тогда, возможно, мне удастся навсегда покончить с этим. Нет, я хочу лишь сам увериться в этом, поверить в то, что произошло. Ведь для меня не имеет никакого значения, поверят ли мне другие. Я только боюсь, что завтра умру, так и не познав самого себя. Из опыта своей жизни я понял, какая страшная пропасть лежит между мною и другими людьми, я понял, что нужно молчать, насколько это возможно, нужно скрывать свои мысли, где только можно, и если теперь я решился писать, то лишь для того, чтобы представить себя своей тени, той тени, которая согнулась на стене, готовая поглотить все, что я ни напишу. Ради нее. Потому что я хочу увидеть, сможем ли мы понять друг друга. Потому что с тех пор, как я порвал все отношения с людьми, я хочу лучше познать самого себя.
Все это ерунда! Пусть! Больше всего меня мучит один вопрос: неужели эти люди, которые похожи на меня, которые имеют те же потребности и те же желания, что и я, неужели они существуют не только для того, чтобы меня обманывать? Неужели это не тени, появившиеся на свет лишь для того, чтобы издеваться надо мной и обманывать меня? Неужели все, что я чувствую, вижу, анализирую, разве все это с самого начала до конца не фантазия, которая так непохожа на жизнь?
Я пишу лишь для своей тени, которая появляется на стене при свете лампы: я должен познакомить ее с собой.
***
В этом гнусном, нищем мире мне, я думаю, впервые блеснул луч солнца. Но, увы, это не был солнечный луч, а лишь призрачный свет, падающая звезда, которая явилась мне в образе женщины или ангела, и в отблеске ее я на мгновенье, на секунду увидел все несчастья своей жизни, постиг свою жизнь во всем ее величии — сразу же этот свет, как это и должно было случиться, исчез в пучине мрака. Нет, я не смог удержать этот призрачный луч.
Прошло три месяца, нет, два месяца и четыре дня, с тех пор как я потерял ее след, но воспоминание о ее колдовских глазах или, вернее, о губительной искре в ее глазах, осталось навсегда. Как я могу ее забыть, если она так связана с моей жизнью?
Нет, я никогда не упомяну ее имени, потому что ее легкий, сотканный из тумана тонкий стан, ее блестящие удивленные глаза, из-за которых жизнь моя потихоньку плавилась и сгорала, не имели никакого отношения к этому гнусному, жестокому миру. Нет, ее имя не следует смешивать ни с чем земным.
Из-за нее я совсем отошел от людей, от всех этих глупцов и счастливцев, и стал искать спасения в вине и опиуме. Жизнь моя заключена в четырех стенах моей комнаты.
Все дни я был занят разрисовыванием пеналов. Все время я разрисовывал пеналы, пил вино, курил опиум. Я выбрал для себя это смешное занятие — разрисовывание пеналов, чтобы забыться, чтобы хоть как-нибудь убить время.
По счастливой случайности мой дом находится за городом, в тихой и спокойной местности, вдали от людских треволнений и суеты. Вокруг пустынно, всюду развалины. Лишь по другую сторону рва, где видны ямы, из которых брали землю для глинобитных покосившихся домишек, начинается город.
Не знаю, какой безумец или глупец в незапамятные времена построил эти дома. Когда закрываю глаза, я не только вижу все выбоины и дыры на их стенах, но и ощущаю на своих плечах всю их тяжесть. Такие дома можно увидеть лишь на старинных пеналах. Все это нужно описать, чтобы для меня самого не осталось ничего неясного, я все должен объяснить своей тени, которая падает на стену. Да, прежде для меня была лишь одна радость, лишь одно меня радовало. Я рисовал на пеналах в четырех стенах своей комнаты, проводил все свое время за этим смехотворным занятием. Но с тех самых пор как я увидел те глаза, после того как я увидел ее, для меня исчезло все — смысл, цена любого движения или жеста.
И удивительнее, невероятнее всего то, что я и сам не понимаю, почему содержание всех моих рисунков с самого начала было одним и тем же. Я всегда рисовал кипарис, под которым, поджав ноги, завернувшись в плащ, сидит горбатый старик, похожий на индийского йога. На его голове тюрбан, указательный палец левой руки он приложил к губам в знак удивления. Какая-то высокая девушка в черном, склонившись, подает ему цветок лотоса. Их разделяет ручей. Видел ли я когда-нибудь прежде эту сцену? Посетило ли это видение меня во сне? Не знаю! Знаю лишь, что, сколько бы я ни рисовал, это всегда была та же сцена, тот же сюжет. Рука сама, непроизвольно рисовала эту картину. И как ни странно, находились покупатели, а с помощью своего дяди с материнской стороны я отправлял эти пеналы даже в Индию, он продавал их и высылал мне деньги.
Эта сцена кажется мне и близкой, и далекой. Я смутно припоминаю… Теперь я хорошо вспомнил этот случай. Я решил: нужно написать свои воспоминания. Но это произошло много позже и не имеет связи с моей темой. Из-за случившегося я совершенно забросил живопись. Минули два месяца, нет, точнее — два месяца и четыре дня. Был тринадцатый день после ноуруза. Все люди бросились за город. Я закрыл окно своей комнаты, чтобы спокойно заняться рисованием. Перед заходом солнца, когда я увлекся рисунком, неожиданно открылась дверь и появился мой дядя. Раньше я его никогда не видел: с самой ранней юности он уехал путешествовать в дальние края; как будто он был капитаном корабля. Я подумал, что у него ко мне какие-то торговые дела, так как слышал, что он занимается и торговлей. Во всяком случае, мой дядя оказался сгорбленным стариком с индийским тюрбаном на голове. На плечах его был рыжий рваный халат, голова и лицо замотаны шарфом, ворот рубашки расстегнут, и из него виднелась волосатая грудь. Его редкую бороденку, которая торчала из шарфа, нетрудно было пересчитать по волоску. У него были гноящиеся веки и заячья губа. Дядя как-то отдаленно и смешно походил на меня, словно это была моя фотография, отраженная в кривом зеркале. Я всегда представлял себе отца именно таким…
Дядя вошел и уселся в сторонке, поджав ноги. Я подумал, что его нужно чем-нибудь угостить. Я зажег лампу и вошел в находившуюся рядом с комнатой темную кладовку. Я обшарил все углы, надеясь найти что-нибудь пригодное для угощения, хотя хорошо знал, что в доме — шаром покати — не оставалось ни вина, ни опиума. Неожиданно мой взгляд упал на полку. Меня словно осенило. Я увидел бутыль старого вина, доставшуюся мне в наследство. Кажется, это вино было налито по случаю моего рождения. Я никогда его не пробовал и совершенно забыл, что у меня в доме есть такая вещь. Чтобы достать бутыль, я подставил табурет, который был в кладовой. Неожиданно я взглянул через оконце наружу. Я увидел сгорбленного старика, сидящего под кипарисом, перед ним стояла молодая девушка, нет — небесный ангел — и, склонившись, протягивала ему правой рукой голубой цветок лотоса. Старик грыз ноготь указательного пальца левой руки.
Девушка стояла прямо против меня. Казалось, она не обращает никакого внимания на окружающее. Она смотрела, ничего не видя. На ее губах застыла непроизвольная, растерянная улыбка, словно она думала о ком-то отсутствующем.
Я увидел эти колдовские, страшные глаза, глаза, смотрящие на человека с горьким упреком, глаза, встревоженные чем-то, удивленные, угрожающие и обещающие, — и лучи моей жизни смешались с этими сверкающими алмазами, полными смысла, и подчинились им. Этот манящий взор настолько приковал к себе все мое существо, насколько это может представить человеческое воображение. Эти туркменские раскосые глаза, обладавшие каким-то сверхъестественным и опьяняющим блеском! Они пугали и манили, словно видели что-то страшное и чудесное, что не дано было видеть каждому. У нее были выступающие скулы, высокий лоб, тонкие сросшиеся брови, полные полуоткрытые губы, которые, казалось, только что оторвались от долгого, страстного, но не насытившего их поцелуя. Спутанные черные волосы обрамляли ее прелестное лицо, несколько локонов прикрывали виски. Нежность ее тела, небрежность и легкость движений свидетельствовали о ее эфемерности.