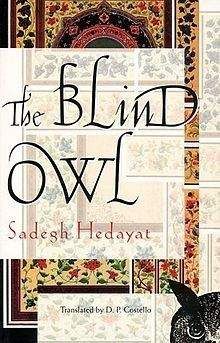Возчик засмеялся сухим, резким смехом: «Не нужно, ладно, потом получу, я знаю, где твой дом. У тебя больше нет ко мне дел? А? Ты знаешь, ведь я умею хорошо копать могилы, нечего стесняться, пойдем к речке, там на берегу растет кипарис, я выкопаю для тебя яму по размерам чемодана, да и пойду».
Старик с ловкостью, которой от него нельзя было ожидать, спрыгнул с повозки, я поднял чемодан, и мы подошли к дереву на берегу пересохшей реки. «Здесь хорошо», — сказал старик.
Не дожидаясь ответа, лопатой и киркой он стал рыть яму. Я поставил чемодан на землю и застыл недвижим. Старик, согнувшись, с ловкостью опытного могильщика занимался своим делом. Неожиданно он откопал какой-то предмет, похожий на покрытый глазурью кувшин, и, завернув его в грязный платок, выпрямился: «Вот яма, как раз по чемодану, точь-в-точь. А?»
Я сунул руку в карман, чтобы с ним расплатиться. У меня остались лишь два крана и один аббаси.
Старик сухо и немного печально рассмеялся: «Не надо, не стоит, я знаю твой дом. А? Ведь вместо платы и нашел кувшин, вазу для цветов из древнего Рея*. А?»
И он, не выпрямляясь, стал хохотать. Плечи его тряслись, он снова завернул кувшин в свой грязный платок и спрятал за пазуху, потом пошел к повозке и ловко вскочил на козлы. Старик щелкнул бичом, лошади, тяжело дыша, тронули с места, бубенцы на их шеях как-то особенно зазвучали в сыром воздухе, и постепенно все скрылось за пеленой тумана.
Как только я остался один, я свободно вздохнул, словно с моей души сняли тяжелый груз. Всего меня объял удивительный покой. Я осмотрелся по сторонам. Здесь была небольшая лощина, окруженная холмами и голубоватыми горами. На некоторых горах виднелись древние постройки из толстых кирпичей и развалины, вблизи находилось русло пересохшей реки. Это было глухое, укромное, тихое место. Я был безмерно рад и подумал, что, когда обладательница этих больших глаз встанет от могильного сна и ей потребуется достойное место, будет хорошо, что она проснется вдали от других людей, от других покойников, ведь и при жизни она была далека от других.
Я осторожно поднял чемодан и поставил в яму. Яма как раз соответствовала размерам чемодана… Сюда и птица не долетит. Но мне хотелось в последний раз, один только разок заглянуть в чемодан. Я осмотрелся по сторонам. Никого не было видно. Я достал из кармана ключ, открыл крышку чемодана и, приподняв край черного платья, среди сгустков крови и копошащихся червей вдруг увидел два огромных черных глаза, безжизненно устремленных на меня, два глаза, в которых была погребена моя жизнь. Поспешно захлопнул я крышку, засыпал чемодан землей и утоптал землю ногами. Потом я принес и посадил куст голубых лотосов, чтобы полностью исчезли всякие следы могилы и никто не смог бы ее обнаружить. Я все так хорошо сделал, что и сам не отличил бы это место от прочих.
Закончив все, я осмотрел себя. Одежда была изорвана и испачкана грязью и черной запекшейся кровью, возле меня вились две большие золотистые мухи, а на мне копошились мелкие черви. Я пытался стереть кровавые пятна, но сколько ни слюнил рукав и ни тер, пятна лишь расползались и становились гуще. На всем теле я ощущал липкий холод крови.
Время близилось к закату. Без всяких мыслей пошел я по колее, оставленной колесами погребальной повозки. Когда стемнело, я потерял следы колес. Бездумно, бесцельно, безвольно в непроницаемой тьме я брел потихоньку по дороге, не зная, куда иду. После того как я увидел ее огромные глаза в сгустках крови, я брел и брел в темной ночи, в той глубокой ночи, что обволокла мою жизнь. Потому что те светившие мне два глаза закрылись навсегда, и мне теперь было все равно, достигну ли я какого-нибудь пристанища или никогда не доберусь до него.
Кругом царила мертвая тишина. Мне казалось, что все меня оставили, что я укрылся среди мертвых предметов. Между мною и глубокой темнотой, окутавшей мою душу, возникла какая-то связь. И в этой темноте, в этом молчании слышится нечто, чего мы не понимаем. У меня закружилась голова, к горлу подступила тошнота, я подошел к кладбищу у дороги, сел на камень и сжал голову руками, — я не мог понять, что со мной случилось.
Я очнулся от неожиданного сухого, резкого смеха. Я обернулся и увидел, что рядом со мной сидит человек с замотанной шарфом головой, который под мышкой держал какой-то предмет, завернутый в платок. Он обернулся: «Что ж, ты хотел добраться до города и заплутался. А? Ты, небось, думаешь, что это он тут околачивается среди ночи на кладбище? Не бойся, я имею дело с покойниками, я могильщик, до другого мне нет дела, я тут знаю все дорожки, все могилы. Вот, например, сегодня я копал могилу, наткнулся на этот кувшин, это ваза для цветов из старого Рея. А? Она не представляет никакой ценности, я отдам ее тебе. Пусть это будет на память от меня».
Я сунул руку в карман, достал два крана и один аббаси, но старик засмеялся сухим, резким смехом: «Нет, нет, — сказал он, — это ничего не стоит, я тебя знаю, я и твой дом знаю. Тут у меня стоит погребальная повозка, давай я довезу тебя до дому, здесь всего два шага».
Он положил мне на колени кувшин и встал. Плечи его тряслись от сильного смеха. Я взял кувшин и поплелся за сгорбленным стариком. За поворотом стояла старая, разбитая погребальная повозка, в которую были впряжены две вороные клячи. Старик ловко вскочил на козлы. Я тоже поднялся в повозку, лег в устроенное для гроба углубление, голову положил на его край, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам. Кувшин я положил себе на грудь и придерживал его обеими руками.
Старик щелкнул бичом, и лошади, тяжело дыша, тронулись в путь. Они высоко и мягко подпрыгивали, и их копыта беззвучно опускались на землю. Бубенцы на их шеях как-то особенно звучали в сыром воздухе. Из-за облаков на землю смотрели звезды, похожие на сверкающие глаза в сгустках черной запекшейся крови. По всему моему телу разлилась приятная истома, только на груди я чувствовал тяжесть кувшина, как тяжесть трупа. Густо росшие деревья переплелись искривленными ветвями, словно они держались за руки, боясь в этой кромешной тьме поскользнуться и упасть на землю. Вдоль дороги тянулись странные дома с черными проемами окон и дверей, напоминавшие какие-то усеченные геометрические фигуры. Но стены этих домов светились, как светлячки, болезненно и тускло. Деревья испуганно жались друг к Другу, бежали друг за другом, стебли лотосов, казалось, цеплялись за их ноги, и они валились на землю. Меня преследовал запах трупа, запах разлагающегося мяса, словно трупный запах пропитал мое тело, будто всю свою жизнь я пролежал в черном гробу, и какой-то горбатый старик, которого я не знал в лицо, кружил вокруг меня среди теней, в тумане.
Погребальная повозка остановилась, я взял кувшин и спустился на землю. Я стоял у дверей своего дома… Потом я быстро вошел в комнату, поставил кувшин на стол, принес из кладовой спрятанную там жестянку, которая служила мне копилкой, и подошел к двери, чтобы отдать жестянку старику возчику вместо платы. Но его не было, не осталось следа ни его самого, ни его повозки. Опечаленный, я снова вернулся в комнату, зажег лампу и развернул платок, в котором был кувшин. Весь кувшин был покрыт светлой древней фиолетовой потрескавшейся глазурью, которая приобрела золотистый цвет пчелы. С одной стороны на нем был ромб, внутри по его краю шел узор из голубых лотосов, а в середине…
В середине ромба было ее изображение… Удлиненное женское лицо с черными, огромными, необычайно большими глазами. Они упрекали меня, как будто я совершил непростительный грех, сам не подозревая того.
Страшные, колдовские глаза, взволнованные и изумленные, угрожающие и обещающие. Эти глаза пугали и манили, и в них сверкало что-то сверхъестественное, опьяняющее. Выступающие скулы, высокий лоб, тонкие сросшиеся брови, полные полуоткрытые губы и растрепанные волосы, несколько прядок лежит на висках.
Я извлек из жестяной коробочки рисунок, который вчера набросал с нее, сопоставил с изображением на кувшине — ни малейшей разницы. Казалось, это был один и тот же рисунок. Это была одна женщина, и выполнил оба рисунка один человек. Это была работа какого-то несчастного художника, разрисовывавшего пеналы. Возможно, что дух художника, рисовавшего на кувшине, перевоплотился в меня, когда я рисовал, и моя рука подчинилась его воле. Эти два рисунка нельзя было различить, разница заключалась лишь в том, что материалом мне служила бумага, а тот рисунок был сделан на покрытом светлой глазурью древнем кувшине. Художник придал изображению какую-то таинственность, дух удивительного, необычного, в глубине глаз светились искры ненависти. Нет, этому нельзя было поверить! Те же огромные, безумные глаза, то же сосредоточенное, напряженное и одновременно спокойное лицо! Никто не может себе представить, какие я испытывал чувства! Мне хотелось бежать от самого себя. Неужели может случиться нечто подобное? Снова передо мною возникла вся моя несчастная жизнь. Разве не было достаточно для меня знать одни глаза? Теперь две одинаковыми глазами, принадлежащими ей глазами, смотрели на меня! Нет, это было совершенно невыносимо! Глаза той, которая была похоронена у горы, под кипарисом, на берегу высохшей реки. Похоронена под голубыми лотосами, в запекшейся крови, среди червей, которые справляют возле нее пир, и где скоро корни растений прорастут сквозь зрачки ее глаз, чтобы сосать их влагу… И вот теперь эти глаза, живые, снова смотрят на меня.