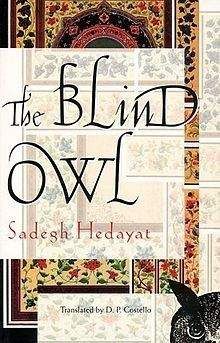Неужели я какой-то особенный, необыкновенный человек? Не знаю. Однако, когда я только что взглянул в зеркало, я не узнал себя. Нет, тот «я», прежний, умер, истлел, но между нами нет никакой границы, никакой пропасти. Я должен рассказать о себе, но не знаю, с чего начать. Вся моя жизнь состоит из различных историй. Я должен выжать виноградную кисть и сок ее по капле влить в сухую глотку этой старой тени.
С чего начать? Ведь те мысли, которые теперь кипят в моей голове, родились только что, они не связаны ни с минутами, ни с часами прошлого, с историей. Случай, происшедший вчера, может оказаться для меня более древним, чем события тысячелетней давности, исчезнувшие бесследно.
Вероятно, с тех самых пор, как все мои связи с миром живых оборвались, перед моим взором отчетливо проступило все мое прошлое.
Прошлое, будущее, часы, дни, месяцы и годы — все для меня едино. Детство, старость — пустые слова, и ничего больше. Они что-то значат лишь для обычных людей, для черни, я с усилием искал это слово, «для черни», для которой жизнь делится на времена года, разграничена, подобно временам года в умеренном климате.
Однако моя жизнь вся состояла лишь из одного времени года, из одного периода, словно она протекала в какой-то холодной стране, в вечной темноте, при этом где-то внутри меня постоянно теплился огонь, который плавил меня, как свечу.
В четырех стенах, составляющих мою комнату, за крепостной стеной, которая окружает меня, мои мысли, моя жизнь постепенно, понемногу плавились.
Нет, я ошибаюсь: моя жизнь похожа на сырое полено, которое лежит среди других поленьев и загорелось от других дров и угля. Оно само не горит, оно лишь тлеет и чадит от чужого пламени и дыма.
Моя комната, как и другие, сложена из кирпичей на остатках тысяч древних построек. На оштукатуренных степах виднеются надписи. Совсем как в гробницах. Мельчайшие детали комнаты, как, например, паутина в ее углу, могут долгими часами занимать мои мысли. С тех пор как я слег в постель, я мало занимаюсь своими делами. Длинный гвоздь, вколоченный в стену, остался от нашей колыбели — моей и моей жены. Вероятно, впоследствии он испытывал на себе тяжесть многих и многих детей. Немного ниже гвоздя к стене прибита доска. Из-под нее доносятся запахи, которые оставили здесь жившие прежде люди. Это стойкие, плотные запахи — и никакой ветер или воздушные течения не могли их уничтожить — запах пота, застарелых болезней, запах из рта, от ног, запах прогорклого масла, гниющей циновки, подгорелой яичницы, различных отваров, жареного лука, супа, сыра, детских пеленок, запах, исходящий от новорожденного младенца, запахи, доносящиеся с улицы, запах покойника или агонизирующего, того, кто еще живет и продолжает сохранять присущий ему запах. И еще много других запахов, истинное происхождение которых мне неясно, но которые тоже оставили свой след.
Комната имеет две темные кладовки и два окна наружу, в мир черни. Одно окно обращено в наш двор, другое — выходит на улицу. Отсюда от меня протягивается нить к городу Рею. Город, который называют «невестой мира»: в нем тысячи улиц и переулков, нагроможденных друг на друга домов, школ и караван-сараев. Город, который считается величайшим в мире, — этот город живет и дышит за стенами моей комнаты. Здесь, в этой комнате, стоит лишь мне закрыть глаза, в углу перед моим мысленным взором встают стертые, размытые тени города, все то, что поразило мое воображение: этот громадный город с его дворцами, школами и садами.
Эти два окна соединяют меня с внешним миром, с миром черни. В комнате на стене висит зеркало, в котором я вижу свое лицо, и в моем ограниченном мире это зеркало занимает значительное, более важное место, чем чернь, которая не имеет со мной никакой связи.
Из всего городского пейзажа в свое окно я вижу лишь жалкую мясную лавчонку, в которой за день продается не более двух бараньих туш. Всякий раз, когда я смотрю в окно, я вижу мясника. Каждый день рано утром перед лавкой останавливаются две черные тощие клячи, чахоточные клячи с сухим глубоким кашлем, с иссохшими передними ногами, с копытами, напоминающими руки, на которых по какому-то нелепому приговору отрезали кисти и которые опустили в кипящее масло. По бокам лошадей свисают бараньи туши. Мясник жирными руками поглаживает свою крашенную хной бороду. Сначала он оценивающим взглядом осматривает бараньи туши, затем отбирает две из них, пробует на вес курдюки и вешает туши на крюки в лавке. Лошади, тяжело дыша, трогают с места. А мясник поглаживает, ласкает эти окровавленные туши с перерезанными горлами, с вылезшими из орбит глазами, с окровавленными веками; затем он берет большой нож с костяной ручкой и осторожно режет туши на части, потом с улыбкой продает их покупателям. С каким удовольствием он выполняет всю эту работу! Я убежден, что он испытывает какое-то особенное наслаждение. Та желтая неуклюжая собака с толстой шеей, которая бродит по нашему кварталу и с жалким видом наблюдает за руками мясника, та собака все это знает. Она тоже знает, что мясник испытывает наслаждение от своей работы.
Несколько поодаль под навесом сидит странный старик, перед которым на тряпке разложено все его имущество: серп, две подковы, несколько цветных бусин, нож, мышеловка, ржавые клещи, приспособление для изготовления эмали, гребень со сломанными зубцами, лопатка, старый глазурованный кувшин, покрытый грязным платком. Часами, днями, месяцами я видел его в окно. На нем всегда грязный шарф и шуштерский халат*. Ворот расстегнут, и через него виднеется грудь, поросшая седыми полосами, воспаленные веки съедены какой-то хронической отвратительной болезнью, на рукаве висит амулет. Лишь в канун пятницы он раскрывает рот с желтыми, словно источенными червями зубами — читает Коран. Этим, должно быть, он зарабатывает на хлеб, так как я никогда не замечал, чтобы кто-нибудь что-нибудь у него купил. Кажется, в кошмарах мне чаще всего видится лицо этого человека. Интересно, какие мерзкие и дурацкие мысли роятся в этой бритой голове, повязанной чалмой кремового цвета, под этим узким лбом? Словно лежащая перед стариком тряпка и все разложенное на ней барахло имеет какую-то особую связь с его жизнью. Сколько раз я собирался пойти поговорить с ним или купить у него что-нибудь, но все никак не мог решиться.
Моя кормилица говорила, что этот человек в юности был гончаром, а теперь у него остался этот единственный кувшин, теперь он зарабатывает на хлеб мелочной торговлей.
Все это было единственной моей связью с внешним миром. В моем внутреннем мире существовали только кормилица и та потаскуха, моя жена. Моя кормилица была и ее кормилицей. Мы с женой были не только близкими родственниками, но и вскормлены оба грудью одной кормилицы. Вообще-то говоря, ее мать была и моей матерью. Я ведь никогда не видел своих родителей, и меня вырастила та высокая женщина с пепельными волосами, ее мать, которую я любил, как родную, и именно поэтому я женился на ее дочери.
О своих родителях я слышал разные истории, но лишь одна из них, которую рассказывала кормилица, кажется мне наиболее правдоподобной. Мой отец и дядя были близнецами. У них были одинаковые лица, фигуры, они вели себя одинаково, и даже голоса у них были одинаковые, так что их не просто было различить. Кроме того, между ними существовала тесная духовная связь, даже ощущения у них совпадали настолько, что если один из них заболевал, то заболевал и другой. Говорили, что они были как две половинки разрезанного яблока. В конце концов оба они занялись торговлей и в двадцатилетнем возрасте отправились в Индию и стали торговать товарами, производившимися в Рее: цветными хлопчатобумажными тканями, халатами, шалями, иголками, глиняной посудой, мылом из местной глины, пеналами. Отец оставался в Бенаресе, а дядю он послал торговать в другие города Индии. Спустя некоторое время отец влюбился в юную девушку Бугам Даси, танцовщицу в храме, посвященном Лингаму*. Она должна была исполнять ритуальные танцы перед громадным изображением Лингама. Это была милая девушка с кожей оливкового цвета, с грудями, как лимоны, с громадными удлиненными глазами, тонкими сросшимися бровями и красным пятнышком между ними.
Я сейчас вижу перед собой Бугам Даси, то есть свою мать, в цветном сари, расшитом золотом, с открытой грудью, с парчовой повязкой на лбу; ее тяжелые, черные, как ночь, волосы завязаны узлом на затылке; на щиколотках и запястьях — браслеты, в носу — золотое кольцо; глаза — громадные, удлиненной формы; зубы — блестящие. Она ритмично танцует под звуки сетара*, литавр и тамбура*, барабанчика, цимбал и трубы. Нежная, однообразная мелодия, которую играют обнаженные люди в набедренных повязках. В этой полной смысла мелодии сосредоточились все тайны колдовства, суеверий, вожделений и мук индийцев. Священнодействуя, в ритмичных движениях и чувственных жестах Бугам Даси раскрывается, как лепестки розы. Дрожь охватывает ее плечи, руки, она сгибается, выпрямляется. Эти движения, имеющие особое значение и говорящие без слов, какое впечатление они должны были произвести на моего отца! А едкий, терпкий запах пота или мускуса, который смешивался с ароматом волос, сандалового масла, — все это еще больше разжигало страсть, возбуждаемую зрелищем. Этот аромат содержит запахи сока деревьев далеких стран, он оживляет давние, уснувшие чувства. Это был аромат, который источают какие-то снадобья, аромат, который исходит от снадобий, хранящихся в комнате роженицы и которые привозят из Индии. Может быть, мои отвары тоже издают этот аромат? Все эти запахи воскрешали далекие, забытые воспоминания об отце. Мой отец настолько был очарован Бугам Даси, что принял веру танцовщицы, веру в Лингама. Однако, когда девушка забеременела, ее выгнали из храма.