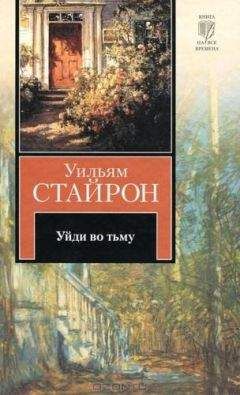— Капптан Треонин единственный инженер в заводе, а сейчас и мастеров знающих не имеем. Ждать же приезда Василия Прокофьевича весьма накладно. Летнего вр. еменн мало в запасе. А вы, батюшка Алексей Николаич, известно мне, железное дело отменно знаете. Имел случай слышать о том от самого Петра Антоновича. Так что уповаю на пашу помощь.
Вот тут бы и задать вопрос Тирсту: а куда же подевались все знающие мастера?.. Да и насчет печи можно бы спросить: не тем ли повредилась она, что загружаема была непросеянною рудой? И еще было о чем спросить Ивана Хрнстиановича…
Но подпоручик пребывал в полном расстройстве после того, как Настя так решительно отвергла его признания и не только не оценила его готовности пожертвовать для нее и своей карьерой и положением в обществе, а даже насмеялась над ним.
Уязвленная душа подпоручика и пораженное его сердце требовали целебного бальзама.
И хотя Иван Христнанович, которого сам же подпоручик считал личностью подлейшей и способной на всякие козни, менее всего мог пригодиться на должность врачевателя, вовремя употребленное льстивое слово оказало свою силу.
Подпоручику уже начало казаться, что, взяв за истину письмо Могуткина, подошел он к делу с предвзятостью, недостойной офицера и неуместной при исполнении столь важного поручения, что, может быть, если и повинен Тирст, то лишь в излишней строгости к подчиненным, которую можно было объяснить особым рвением и заботой об интересах казны.
Как бы там ни было, а помощь, за которой обращался Тирст, это же в конце концов не Тирсту помощь, а казенному делу, о коем и он, подпоручик Дубравин, обязан радеть.
Инженерных знаний никто здесь, кроме него, не имеет, и если он откажет Тирету в его просьбе, то это вполне может быть истолковано как леность и небрежение к службе.
Подпоручику вовсе не трудно было убедить себя в необходимости отсрочить отъезд, ему не хотелось верить, что Настя сказала последнее слово, и он убеждал себя не терять надежды.
«Только слабая крепость открывает ворота при первом штурме», — подбадривал он себя.
«Неужели догадался, для какой цели задерживаю его?» — подумал Тирст, видя, что подпоручик медлит с ответом, и сказал, как бы извиняя его нерешительность:
— Страшитесь упрека в промедлении?
— Нимало, — возразил подпоручик. — Як вашим услугам.
— Вот и хорошо, батюшка Алексей Николаич! — искренне обрадовался Тирст. — Тогда завтра с утра и займемся оной печью.
«Отлично!» — подумал подпоручик. Неторопливость Тирста была весьма кстати. Следуя мудрому правилу: «Куй железо, пока горячо», подпоручик намеревался сегодня же повторить штурм своенравной крепости.
— Отдыхайте, батюшка Алексеи Николаич, да собирайтесь в дорогу, — продолжал Тирст с необычным для него благодушием, — а уж завтра поутру я вас потревожу.
«Визгу много, шерсти мало! — усмехнулся Тирст, глядя в окно вслед подпоручику, быстрым шагом сбегавшему с крылечка. — Зелен еще на старших замахиваться! Попляши возле холодной печи, коли около молодой девки не согрелся… А тем временем владыка успеет к его высокопревосходительству…»
Но тут Тирст заметил мирно дремлющего па крылечке Перфильича, который, разомлев па солнышке, проглядел подпоручика.
— Ах, старый хрыч! Так‑то исполняешь службу. Вот я тебе сейчас!.. — но, подойдя к двери, Тирст передумал: «Нет более надобности опекать его благородие. Пусть рыщет за своей ундиною. А старый хрен пускай подремлет. Ужо сделаю ему побудку».
Подпоручик тоже заметил, что нечаянно избавился от назойливого провожатого.
«Тем лучше, — подумал он. — Быстрее к ней!»
Он прибавил шагу и вскоре очутился у свертка в знакомый проулок. Но теперь, когда до встречи остались считанные минуты, решимость вдруг покинула его.
«…не стыдно вам перед девкой так унижаться…» — вспомнил он и снова увидел ее чужие глаза и злую, почти брезгливую, усмешку…
«Она поймет… она поверит мне…» — убеждал он сам себя, но и сам не верил себе…
Знакомый цветастый сарафан промелькнул в огороде среди высоких кустов смородины. Дубравин увидел, как Настя по лазу перебралась через плетень и быстро пошла по улочке, спускавшейся к пруду. Все сомнения разом отлетели, и подпоручик устремился за Настей. Но бежать по улице было непристойно, а когда он достиг плотины, Настя уже поднималась на противоположный крутой берег пруда.
По–впдимому, она отправилась в лес, непонятно было лишь, почему без ружья.
«Заодно и узнаю, за каким делом она столь часто в лес ходит, — подумал подпоручик. — Только бы не заметила».
Но Настя шла быстро и, ни разу не оглянувшись, скрылась в лесу.
3
Всю дорогу Настя спешила, словно гнались за ней. И только у самой землянки остановилась.
«Ой, девка, по той ли тропке идешь? — спросила сама себя и сама же ответила. — Некуда больше мне прислониться…»
Дверь в землянку, которую она, уходя, так тщательно заслонила сухим валежником, была открыта.
«Нашли! Схватили! А я, окаянная, два дня не была… На бариновы слова уши развесила!.. Ой, подлая!..»
Ноги враз обессилели, шагу не ступить. И в голове стук, как молотами бьют… Все куда‑то провалилось, ничего нет впереди… одна чернота…
«Господи!.. Аль тебе мало!..»
И в это время из землянки глуховато, с хрипотцой не то песня вполголоса, не то сказ нараспев;
Летя–ат у–утки,
Летя–ат у–утки
И два–а гу–уся…
Хотела крикнуть во весь голос… а прошептала чуть слышно:
— Ванюшка!..
Прижала руку к груди. Бьется, только что не выскочит… Постояла, прислушалась… Так это дивно… словно вовсе другой человек… Ни злобы в голосе, ни тягости. Рад человек, что к жизни вернулся…
Ох, ново лю–ублю,
Ново лю–ублю,
Ни–и дожду–уся…
Не одну сотню раз бывала здесь Настя. Надежно укрывала ее старая землянка и в зимнюю метель, и в летний зной, и в осеннее ненастье. Всегда входила спокойно, как в дом родной…
Сегодня первый раз вошла с душевным смятением…
Иван сидел на чурбаке, вырезал Настиным ножом ложку из куска дерева.
Увидел Настю, обрадовался.
— Вот и кормилица моя! А я уж пригорюнился: завела себе дружка милого, позабыла меня, варнака.
Другой, совсем другой… Обличье то же… и борода, и кудри лохматые кольцами свесились на высокий лоб, и глаза темные, глубоко запавшие… Нет, глаза не те… добрые и веселые… смелые и ласковые.
Настя вспомнила другие, смотревшие на нее с жалкой и жадной собачьей преданностью…
«Господи! Как я могла… руки мне целовал…»
Шагнула к Ивану, обняла его черную лохматую голову, прижала к своей груди.
Сказала с ласковым упреком:
— Напутал ты меня, Ванюша…
Нож и ложка выпали из рук. А руки сами потянулись к ее полным мягким плечам.
Он ли, пригнул, она ли склонилась… и вот уже лицо к лицу… и вся она приникла к нему, трепеща и вздрагивая…
…Иван очнулся первый. Приподнял голову…
Настя лежала, закрыв глаза.
Свет из оконца овальным пятном падал на ее лицо, золотил брови и длинные ресницы.
Иван шевельнулся, и тогда рука ее легла ему на плечо и полураскрытые, чуть припухшие губы прошептали:
— Не уходи!..
«Сиротинка моя… Куда ж я уйду?.. Навек меня повязала… Приголубила, пожалела варнака беглого… А я не пожалел… Где совесть‑то!»
Уронил голову на ее плело, зашептал:
— Ты прости меня, Настенька!
Потрепала по влажным кудрям.
— В чем винишься‑то?
— Не знал я… — не сразу нашел необидное слово, — что первый я у тебя…
Вздрогнула, словно ударил ее. Оттолкнула его голову. Рывком поднялась, села на постели.
— Бессовестный! — и заплакала горько, по–бабьи. — Ты что, думал, я казенная кружка!..
Убил бы себя за свою подлую дурость.
— Не обижайся, Настенька! Наш брат варнак… по себе судит… Отвык я от доброго…
Гладил ее, как девочку, по голове, осторожно грубыми негнущимися пальцами убирал со щеки выбившиеся из косы густые рыжие пряди.
Она, пряча лицо на его груди, дышала тяжело, вздрагивала, глотая слезы…
Настенька, родная… чтобы не плакать тебе больше никогда от меня…
4
Под чужой ногою сухо хрустнул валежник.
Иван отпустил Настины плечи, нагнулся за ножом, положил на постель у себя за спиной.
Подпоручик, пригибаясь, шагнул через порог и, не решаясь распрямиться, стоял, втянув голову в плечи, заслонив собою дверной проем.
Иван прежде всего разглядел тусклые звездочки на погонах, потянулся рукой к ножу и весь подобрался, словно готовясь к прыжку.
— Алексей Николаич! — вырвалось у Насти.
— Приятная встреча! — с почти истерическим смехом вскричал подпоручик. — Что же не представите мне счастливого соперника моего?