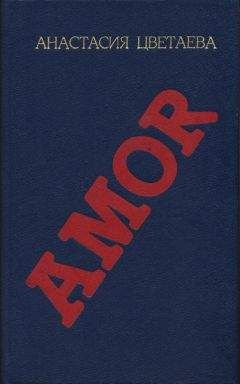И вот это таинственное существо — перед нею. Ника держит портрет жены Морица. (Она узнала, её зовут — Ольга.) Ненасытно впивает она темный фон фотографической мглы, потертой, в легких трещинках карточки. Лицо в половину натуральной величины — ей в глаза прямо, как будто глядишь в зеркало. Облик, ею не виданный никогда более — во всей вечности! — неповторимый. Лоб более широкий, чем высокий, но и высокий тоже, обрывающийся совершенно горизонтальной линией темных, длинных бровей — при полной разглаженности, при их олимпийском покое все же кажущихся насупленными — так они стремительно распростерты над широкими и длинными глазами. Пристальный, утверждающий, застенчивый, застенчивость борющий, тяжелый взгляд. Он тяжел тем, что приковывает. Как много больше один этот взгляд даёт Нике, чем все рассказы Морица! Этот взгляд молча оборачивается к нему — и рушились "города и годы". Вот чего он не умел рассказать! Ника все хотела её слов, Мориц искал — их не было. Говорящей оказывалась немота… Полуулыбка рта негой отражена в глазах, неулыбающихся. Это нега веет в пушке ресниц, нижних. Лицо широкоскулое. В нем грация здоровья, упорной юности, отдающей детством в очаровательной и нисколько не грубой пухлости щек. Как из массы мраморной восстаёт линия — так из округлости этих девических щек устремляется строгий контур подбородка, привнося в это мраморно–плоское лицо женщины неожиданную хрупкость и остроту, некую внезапно–прощальность, нечто отрывающееся, ускользающее, берущее себя нацело назад из тела, застенчиво–торжествующее! В неведомый и неназванный дух. Нос короткий настолько, чтобы не быть названным длинным, тонок пластической тонкостью Греции. Идеальность пропорций, делящая черты, диктующая характер лицу, ждёт вот именно этого рта, грациозного и стыдящегося, своенравного и все же спокойного. Гладь лба, взыскующий взгляд глаз темных и все‑таки не темно–карих, имеющий свет под цветом; задержанный трепет тонких ноздрей, горделивость губ, отдающихся только этому, навсегда. Чуть беспорядочный поток волос, тяжелых, пушистых, как ещё одна и будто уже лишняя красота, небрежно, привычно отброшенная назад за крепкую шею, переходящую гармонической линией в медленный спуск плеча. Темное платье, полукругом открытое, — все в напряженном покое. Это та полнота жизни, которую Ника не поймет никогда — потому, что Ника все хочет понять, а эта себя не понимает, она просто дышит, как бытие. Но она недоступна!
"Я бы могла любить её… — говорит себе Ника. — Но любила бы она меня? Боже мой! — так взывает — не о себе, может быть… в первый раз о другом, — и я хотела Это воплотить в поэму… Но ведь нет таких слов! И — но… — она бьётся об какую‑то мысль, и ей не находит названия. — Это иметь! Знать своим! И от этого — отрываться… Какой же силы зов в новые бездны имеет в себе тот, кого эта женщина любит! А ты? — спрашивает её кто‑то, — после того полета, в котором прошла твоя юность и часть зрелости, — как же ты вошла в эту, чужую же тебе, бездну, в душу этого человека? Он же ранит тебя каждый день, в нем нет той "высокой ноты", которая тебя звала от рождения (тебя и всех героинь книг, которых ты любишь, ты же — не одна!..) Нет в нем? — отвечает она смятенно. — Почему же как только я хочу от него оторваться — он предстает опять Кройзингом, героем "Испытания под Верденом"? Почему же бьюсь о него как о стену — и не ломаю себе на этом крыльев, — ращу их? Да разве оттого я не оставляю его, что мне что‑то в нем надо? Не за его ли душу я борюсь в смешных рамках этих поэм–повестей? Не его ли душе служу, не её ли кормлю — в страхе, что вдруг оступится в какие‑то бездны, где возомнит себя — дома? Не для того ли зову его к ответу за каждую не ту интонацию? Господи Боже мой…"
Она, как в детстве, в слезном пароксизме, кидает о стол голову, но глаза сухи, ей кажется — больше нет сил. Ночь тиха. Смолкла Москва, все звуки утихли…
"А ты — спишь? — спрашивает она немыми губами — ту".
Ника была на краю отчаяния: только что Мориц ей рассказал, что написал жене, чтобы она больше не слала ему посылок, не лишала детей нужной им еды. "Я сыт, — сказал он, — а Ольге, после тринадцати (!) операций глаз, запрещена глазная работа, и она работает в две смены с лотком Моссельпрома. На последней фотокарточке она стала неузнаваема. Я отказался от помощи…"
Вертя арифмометр, она думала о том, что ей делать… Но ничего придумать было нельзя, кроме — письма Ольге, опровергавшего его письмо. Умолить её не прекращать посылок, без которых погибнет он, так сжигающий себя на работе, ведь ночью не прекращает новых и новых способов в заяв лениях излагать свое дело, настаивать на ошибочности обвинения…
Но последняя капля, переполнившая его чашу, — было письмо его дочки, Бэллы, девочки пятнадцати лет. "Папа, — писала она, — не пиши длинных заявлений, мне сказали — их никто не читает…"
Письмо Бэллы вызвало его письмо к её матери — он начинал терять веру в правосудие его страны, он решил пустить ладью свою по течению — но его письмо к Ольге вызвало к жизни решительное письмо к ней — Ники. "Ольга Яковлевна, — писала она, — не верьте мужу. Ему нужно усиленное питание. До меня он — неразумно, нелепо все ставил на общий стол. Я это прекратила. Жиры я превращаю — на кухне — в печенье. Ни одна капля пользы не минует его…" Далее шла просьба прислать свой портрет и Юры — сына, она их повесит в его шкафчике, так что как только откроет — увидит.
Стук арифмометра, как вьюга, заметал все.
Мориц проходил по комнате с копией накануне отосланной в Управление сметы, когда его окликнула Ника. Он подошел. Молча, незнакомым ему — чуть повелительным и одновременно как бы просящим — движением она подвигала к нему тетрадку. Молча он открыл её. Это были стихи. На первой странице стояло: "Мыльный пузырь". Его брови поднялись: что‑то родное. Как она могла знать? Они с братом в детстве, задолго до первой войны, увлекались этим делом. Брат искусно пускал их из особо свернутой газетной бумаги, он же отстаивал метод "трубочный" — из заграничной настоящей трубки, легкой, как застывшая морская пена (или кто‑то сказал, что так, и они верили…).
Её стихи? Собачьим чутьем ощутив, что момент этот для нее — особенный, он вложил тетрадь в ведомость сметы — неучитываемое мгновенье засомневался, не надо ли что‑то сказать, решил сомнение — отрицательно, и отошел к своему столу. Все кругом работали. Щелкали арифмометры, счеты, и у кого‑то легким, родным со школьной скамьи звуком, воздушным, только уху чертежинскому слышным, скрипел рейсфедер о гомеопатические ворсинки полуватмана, отдаленно напоминая полет норвежских коньков по льду. Это были стихи, ему посвященные. Это обязывало? Этого надо было ждать…
Что‑то хмуро легло у его рта. Незаметно ему порой сдвигались брови. Стихи были неровны, но несколько было хороших. Были портретные. Лирика. Риторика. Мимолетно он удивился в себе — отсутствие наблюдательности. Что‑то понимая, не анализируя, он шел мимо этих предчувствий. Ника же, женщина, несмотря на ум, несомненный, и надо же было, все же… Не предполагал, не предвидел. Легкая тень досады сжала что‑то внутри. Осложнение и без того неблагоприятной ситуации?
В юности он не любил идти по натертому паркету. Сходное балансирование предстояло теперь. Неприятности в Управлении. Срочная работа. И нет вестей из дому! И это…
Он читал со смешанным чувством досады и удовольствия. Прочел и перечел вновь.
Мориц читает стихи Ники. Это был для нее момент большой важности. Но, преодолев первый миг, — морщины его лба — она сразу сошла с подмостков Дузе — легкой ногой…
Ника была совершенно спокойна. Точно дело шло не о ней. Она видела его наклоненную голову, сейчас он её подымет, дочитав последнюю строку. Он, конечно, не будет знать, с чего начать, учитывая её волнение. А этого волнения — нет! Испарилось. За это она так любила "Дым" Тургенева, дым от огня. Дым, испарение огня, пар, в облако уходящий… В ней было любопытство. Сознание юмора минуты. Ответственность за совершенное. Холодила — или грела — непоправимость. Безвыходность положения их обоих! И — и дружеское участие к нему и, конечно, немного иронии. Большое переполняющее чувство достоинства — именно тем, что оно ею так сознательно было попрано, давало ей ощущение горького счастья.
Он дочитывал листки, когда уже начался перерыв, и поднял глаза.
— Нет, — сказал он по–английски, — с одним я не согласен — с названием. Это не мыльный пузырь, нет!