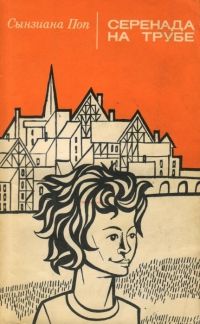— Вы так задохнетесь. Не лучше ли было бы взять два пирожных? Я ведь вам все время предлагала. Зачем было так мучиться? Совсем ни к чему. Пошлите подальше эти пирожные, на свете есть гораздо более серьезные проблемы. Вы слышали когда–нибудь о Кости и Пуркуамадам?
Они не проявили никакого любопытства, правда, не знаю, какой частью тела можно его проявить, если не глазами, а их глаза… так что я продолжала:
— Пуркуамадам держит руку за спиной, а Кости собирает на улице милостыню. И если спросить его: «Что еще делает Пуркуамадам?» — он смеется совершенно беззубым ртом и кричит: «Фолибержер, фолибержер». Вы поняли? Вы немного знаете французский?
Однако в следующую минуту один из мальчиков поднял руку. Он поднял руку и сделал знак, который Рыбешка восторженно подхватила на лету и поспешила за витрину. И тут же появилась снова с тарелкой, где лежало одно пирожное и две серебряные ложки.
— Опять? — испуганно воскликнула я. — Опять одно?
Рыбешка покорно склонила голову; она готова была заплакать, но, мне кажется, она уже думала о черном платье, в котором сфотографируется во время интервью по поводу самоубийства в кафе «Вари». У всех дам, дающих сенсационные интервью, не хватает времени, чтобы привести себя в порядок, перед тем как сняться, ну их, уж слишком они кажутся покорными, и будто в холодильнике у них хранятся литры холодной крови.
— Очень жаль, — сказала я. — Мне так хотелось с вами поговорить, развлечься вместе. Но если вы…
Однако они уже шарили по столу в поисках пирожного. Я не могла этого вынести и подтолкнула их руки в нужном направлении. И хотя они тут же нашли тарелку, но не начали есть, а, наоборот, каждый стал тянуть ее к себе, они тащили ее по очереди, отыскивая центр стола. А потом они его нашли и застыли. Может быть, они отдыхали, а может, думали. Нельзя понять намерения человека, когда не видишь его лица.
— Ничего не понимаю, — сказала я. — Честное слово. Если вы все равно купили два, почему вы не попросили их сразу?
Раскатистое рычание выкатилось из–под одного мешка, но я не поняла, что оно означает. — Что вы сказали? — спросила я.
— Оставьте их в покое, — прошептала Рыбешка. — Бедняги.
Между тем дружки уже ухватились за ложки и готовились к более решительным движениям. Но вместо того, чтобы попасть в пирожное, угодили друг в друга — Ложка в ложку, и надо было видеть эту борьбу не на жизнь, а на смерть. От усилий лбы потекли с огромной скоростью, закрыли все лицо, завесили подбородок, как толстая, мясистая вуаль. В этот момент я различила сквозь окно витрины голову девочки, которая со страшной злобой таращила на меня глаза. Когда она вошла в кафе, я увидела, что она очень худа и очень пряма, на ней горные ботинки, а на шее висит свисток.
— Сколько тебе дать, чтобы ты убралась отсюда? — спросила она меня.
Я пригляделась, она была не очень симпатична.
— Ну, решайся побыстрее, нам некогда.
— Ты старая дева или нет? — спросила я. — Я хочу это знать.
Но тут на меня надвинулась Рыбешка.
— Как, уйти, не расплатившись?!
От удивления глаза у нее трижды перевернулись вокруг собственной оси. Но девица широким жестом вынула из заднего кармана юбки мужской кошелек.
— Я оплачиваю. Мне нужно это место.
— Вы из прессы? — медовым голосом спросила Рыбешка.
— Пансион святой Урсулы, первая ступень, Капитан–казначей, — сказала девочка, встала по стойке «смирно» и откозыряла.
— Четыре лея, — вкрадчиво сказала Рыбешка, — хотя крема было полпорции, но с Капитана–казначея стоило содрать и шкуру.
Девица поспешила на улицу и засвистела что было силы. Первой появилась толстуха с большой картонной коробкой. Она уселась на мое место и поставила коробку на колени. А потом в широко раскрытую дверь ввалилась вся первая ступень пансиона святой Урсулы, девочки–солдаты шли парами, на них были ботинки, береты надвинуты на лоб. Капитан–казначей коротко свистнула — раз–два, — и они двинулись мимо стула, опуская монеты в коробку Красного Креста, и даже не взглянули на дружков, лбы которых стали уже превращаться в мантию. Короткую, до пояса, мантию, как в «Гамлете».
— Спешите видеть явление природы, — провозглашала по временам толстуха, встряхивая коробку. — Спешите видеть.
Я выбралась на улицу, очередь в кафе доходила до угла. Девочки тихо стояли парами и читали свою газету. Значит, подумала я, почти ничего не изменилось. Традиции города были все те же. У урсулинок все происходит, как и у нас, только организация другая, немного более эффективная, и предусмотрен контроль со стороны учеников. Хотя капитаном–казначеем в равной степени могла быть старая дева или продавщица нафталина с улицы Мельниц. Во всяком случае, мне в тысячу раз больше нравились эти трансильванские ребята из Нормальной школы, я просто даже полюбила их. И мне было жаль, что я их так бросила, не сказав и «до свидания», но, думаю, Рыбешка держала их под бдительным присмотром. Не могла же она так запросто отказаться от своего траурного платья для интервью.
В четыре часа городские магазины вывешивали объявление «Offen»[52]. Покупатели прибывали только в пять. Я шла по тротуару, и большие стеклянные двери отражали меня вначале спереди, а потом сзади; сперва я двигалась себе навстречу и вдруг начинала видеть свою удаляющуюся спину. Итак, по всей улице вдоль стеклянных занавесов, проявлявших горный пейзаж, плыла одна только я. Видны были горы и в дверях; на одном и другом конце главной улицы были горы, и, хотя стояло лето, снег сверкал вовсю, и я шла — вначале приближаясь, а потом удаляясь, — на фоне прекрасного пейзажа.
Улица была мостом. Дома росли по ее сторонам трех–четырехэтажные, с узкими фасадами. Дома лепились один к другому, но я могла бы поклясться, что зубчатая решетка, образованная крышами, — это подвесной мост между горами. Так что иногда, закрыв глаза, я ждала, когда улица, на которой уже появлялись первые покупатели, начнет покачиваться.
Левый тротуар пропах колбасами. В магазине продавали не только колбасы, но их запах был настолько силен, что мог бы привлечь собак со всего света. Однако служба живодерен в городе была поставлена идеально, я никогда не забуду зеленые фургоны, тарахтевшие по мостовой; фургоны были оборудованы проволочными лассо, а сквозь решетку, напоминавшую тюремное оконце, глядели такие печальные псы… Спасались только собаки с номерами, породистые уроды: бульдоги, пинчеры, терьеры, — я никак не могла понять, откуда у людей эта извращенность вкуса: разводят чудовищ, в то время как на пустырях полно маленьких бродяг, веселых и бесконечно преданных. Одна я мечтала бы опекать всех бродячих собак, а еще больше — всех кошек, потому как, что там ни говори, ласковый, игривый котенок, карабкающийся по твоей ноге, — это вещь. Переворачиваешь его пузом вверх, и он, защищаясь, вцепляется в тебя когтями, кусается, а потом устает, вытягивает лапы, и ты можешь делать с ним, полусонным, что угодно. Но колбасы «Стинге и Пеис» не то что собак, человека могли приманить: охотничьи сосиски домашнего копчения и все эти свежие гастрономические изделия, разложенные на витрине с одного конца улицы до другого, — ну просто голову свернешь. Идешь в обалдении по тротуару мимо гор сосисок и вареных колбас, мимо окороков и головок сыра, мимо кровяного зельца, копченой колбасы, паштета из печенки, мимо ливерной и краковской колбас, мимо венгерской и польской розовой. Они были разложены на витрине с тонким искусством и разрезаны пополам, чтобы виднелась их сердцевина, воздушная или сочная, нежное мясо, таявшее, как булка с маслом, во рту. А если еще, как раз когда ты идешь мимо магазина, из него выглядывает продавец, его белый халат, пропитанный всеми запахами витрины, доводит тебя чуть не до обморока. Но пятичасовые покупатели приходили, запасшись деньгами, вооруженные бездонными сумками, товары с витрин перемещались в плетеные корзины, и до самого позднего вечера струи запахов указывали дома, которые ломились от снеди. Что же касается улиц, по которым проносили продовольствие, то асфальт на них был испорчен, он явно прогнулся и врезался в землю.
Просто не знаю, когда это улица настолько оживилась, что я налетела на человека, шедшего впереди меня, которого задержал человек, шедший впереди него, путь которому преградил человек, шедший перед ним и упершийся в широкую спину пожилой дамы, виноватой во всем. Все они повернули головы, и, так как за мной никого не было, я и оказалась главной обвиняемой.
— Не смотрите на меня так, — сказала я. — Я ни в чем не виновата.
— Зачем толкаешься? — сказал человек, шедший впереди меня. — Она толкается, — сообщил он человеку, шедшему перед ним, а тот — дальше.
— Ты что, с ума сошла? — завопила дама, из–за которой все случилось.