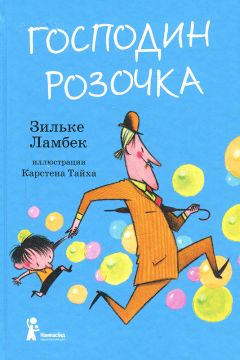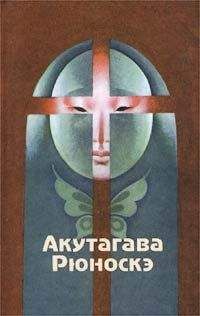Ознакомительная версия.
Шумная суета российской столицы и размеренная повседневность провинции, промышленные зоны и спальные районы, гопники и «неформалы», торговля на вещевом рынке и офисная рутина – все подвергается беспристрастному, жесткому, но всегда точному и детальному описанию. А когда Козлова спрашивают, почему он видит так мало хорошего в окружающей действительности, писатель отвечает: «Я пишу о том, что возникает, когда хорошее – добро и красота – уходят от нас». В этом заявлении нет ни пафоса, ни позерства, оно абсолютно искренне и потому убедительно.
Причем сама действительность никак не объясняется, все происходящее почти не комментируется. Жизнь фиксирует, изображает, оценивает сама себя: в меняющихся ракурсах и повторяющихся событиях, в отдельных штрихах и мелких частностях. Роли автора в собственном тексте – сценарист, режиссер и оператор, которые всегда за кадром. В таком тексте, по верному замечанию самого писателя, автобиографична прежде всего сама реальность: время и место, обстоятельства и ситуации, люди и вещи.
Скотское существование люмпенов («Гопники»), унылые будни провинциальных школьников («Школа»), андеграундная музыкальная тусовка («Попс»), борьба за выживание в постсоветской («Плацкарт») и в современной («Домой») России – в каждом своем произведении Козлов не рассказывает, а показывает читателю разные социальные среды и разные стороны человеческой жизни. Смотрите сами, оценивайте сами и сами же делайте выводы…
Позиция писателя – полная объективация, дистанцирование и отстранение от происходящего. Авторское «Я» сведено к минимуму. Как сформулировал один из читателей-блогеров, «автор просто вырезает из этой жизни кусок без начала и конца и, не препарируя, кладет перед нами». Козловские тексты лишены рефлексий Владимира Сорокина, иронии Виктора Пелевина, мистицизма Юрия Мамлеева. В них полностью отсутствуют ядовитость Чака Паланика и Мишеля Уэльбека, экстремальность Уильяма Берроуза и Ирвина Уэлша, эгоцентризм Хантера Томпсона и Чарлза Буковски.
Козлов не строит никаких идейных концепций, не предлагает каких-то способов жизненного обустройства или социального преобразования – он просто поворачивает объектив, меняет линзы, наводит резкость на выбранный предмет. Схватывает детали, подмечает характерные движения, ловит обрывки фраз. Это называется гиперреализм – фотографирование жизни в тексте, ее предельная словесная фиксация.
Однако нет у Козлова и буквального копирования реальности. Во всем – строгий отбор и тщательная фильтрация. Выбраковка лишнего, побочного, «замутняющего кадр». Максимум выражения при минимуме формы. В результате получается фактически голое повествование: не увешанное гирляндами метафор, не стреляющее хлопушками оригинальных идей, лишенное хитросочиненных сюжетных ходов. И, кажется, меньше всего этот автор стремится к тому, чтобы сознательно шокировать или эпатировать читателя. Да и реальность он «снимает» по старинке – не на цифру, а на пленку.
Но именно такой внешне безыскусный, технически несложный подход неожиданно вскрывает глубинные структуры, обнажает самые основы человеческого существования. То, что скрыто в толще повседневности и постоянно ускользает от передачи традиционными литературными приемами и художественными средствами. Почему? Да потому что всякий вымысел, любая метафоричность удваивают и искажают реальность, придают ей несуществующие свойства, тогда как «нулевое письмо» делает реальность абсолютно обнаженной и прозрачной. Возвращает ей первозданный естественный облик.
Отсюда известная иллюзорность восприятия сюжетов и героев Козлова – как утрированно «низких», избыточно «грязных» или нарочито «отвратительных». Такими эпитетами частенько награждают, а подчас и безжалостно секут этого писателя. Однако любая частная жизненная ситуация и всякое изображение окраин и границ в эстетике гиперреализма будут казаться английским «трэшем», французским «нуаром» или русской «чернухой».
В гиперреализме есть провокация, но нет эпатажа. И при всей жесткой прямолинейности своей писательской манеры Козлов не страдает подростковыми перверсиями современной прозы: не шарится вместе со своими героями по свалкам и подворотням, не поэтизирует наркоманию и алкоголизм, не демонстрирует гениталии и не задирает женщинам юбки. Он демонстрирует, как все это делают ДРУГИЕ. Другие, но притом вполне реальные и окружающие нас люди. Чувствуете разницу?
Все козловские произведения – как единый и ежедневно снимаемый фильм «про жизнь». В таком тексте-фильме почти нет наслоений того, что принято называть «культурой» и «цивилизацией». Вместо художественного «мяса» здесь мясо настоящее, живая человеческая плоть. Натура. Тут уже даже не правда жизни – но жизнь правды. Ее скрытое, но все же ощутимое присутствие в устойчивых формах поведения людей, в повторяющихся жизненных сценариях, в привычных ритмах повседневности.
Разве единична и не узнаваема история с изнасилованием, описанная в романе «1986»? Нет, она вполне типична и в этой типичности особенно страшна. Подобное происходило в советское время и продолжает происходить сейчас. Это случается как в низовых слоях общества, так и в высших социальных стратах, в семьях рабочих и в семьях олигархов. Такое возможно не только в России, но и в Европе, Америке, Азии, вообще везде, где есть люди, признающие насилие нормой повседневного существования.
И самое страшное в рассказанной Козловым истории вовсе не само насилие, а покорность насилию и циничное смирение с ним. Поиск его механизмов где-то вовне (в общественных пороках, объективных обстоятельствах, жизненных трудностях) вместо честного признания агрессивной природы самого человека. Вся наша жизнь есть насилие и сопротивление насилию. Или, наоборот, непротивление. Последнее наиболее ужасно. Жена стоически терпит издевательства мужа. Учительница подозревает убитую ученицу во фривольности поведения. Насильник «содействует» расследованию преступления и поиску жертвы. Женщину принуждают к публичному оральному сексу, а она на коленях умоляет не наказывать своих мучителей…
И потом, разве так уж очевидно, ктó в романе Козлова настоящий насильник и убийца? Ведь финальная сцена, в которой Юра тащит в кусты случайно встреченную девушку, вовсе не доказывает его причастности к расследуемому преступлению. Понимание этого, пожалуй, и есть самый сильный момент в «1986»: возможно, главный герой только очередной насильник, лишь один в ряду многих и многих…
Там, где традиционная литература послойно реконструирует историю или последовательно моделирует психологию, трансгрессивный минимализм сразу же проникает на самый нижний – физиологический – уровень восприятия. Это позволяет пробиться к читателю напрямую, без «предварительной записи» или «ожидания в очереди» с другими писателями. Трансгрессивную литературу можно рассматривать как форму творческого прорыва к истокам человеческого опыта, к первоосновам нашей природы.
И проза Владимира Козлова – один из очень немногочисленных в современной российской литературе примеров того, как, минуя рациональное осмысление, произведение способно проникать сразу на эмоциональный уровень читательского восприятия. Порой это очень больно, иногда – нестерпимо стыдно и почти всегда – неприятно. Но такая проза доказывает общую способность литературы не только описывать жизнь, но пробивать кору обыденности. И становится ясно, что не кора это вовсе – а так, только тоненькая корочка. Что весь многовековой слой всей нашей культуры на самом деле очень тонок. Стыдно тонок…
Писать и читать тексты вроде «1986» – как постоянно расковыривать слегка затянувшиеся раны. Срамные, болезненные и кровоточащие. Это не делает нас ни лучше, ни умнее, ни счастливее, но проверяет на устойчивость, испытывает на прочность и позволяет просто оставаться людьми.
...
Юлия Щербинина
Ознакомительная версия.