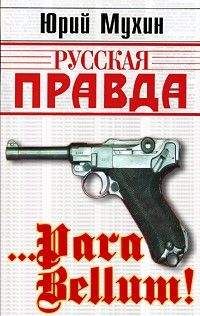— Скажу, что соединение — не дивизия и не корпус. Бригады разойдутся по двадцати районам, какая между ними может быть взаимопомощь? Я об этом думал. На Ковпака, Сабурова не смотрите — у них другие задачи. А мы местные партизаны. В наших условиях более нужен обком, чем военное командование. С нашими военными задачами справятся капитаны.
— Вот ты какой, — Лавринович остановился, барабанит пальцами по столу. — Оказывается — философ. Теоретик. И все же, Бондарь, прав я. Ты не все знаешь. Впереди у нас такие примерно дела, как ваш Птичский мост. Без генеральной репетиции не обойдешься. Да и засиделись. За зиму — один серьезный бой под Грабовом. Надо людей расшевелить, чтоб кровь закипела.
— Боев хватит. Чуть ли не во всех районах есть неразогнанные гарнизоны.
— Дискуссий тоже хватит, Бондарь. Подготовь приказ. Обмозгуй все как следует. По эшелону ударим силами трех бригад — Михновца, Деруги и Гаркуши. У них, по-моему, больше, чем у других, укоренилась крестьянская демократия. Надо с такими настроениями кончать. Не горюй, есть две пушки, пулеметчиков мобилизуем из всех отрядов западной зоны.
Уже собираясь уходить, спрятав в планшет карту, Лавринович поворачивается к окну, с минуту стоит молча. День разгорается солнечный, теплый, на улице слышны детские голоса. Глядя куда-то в окно, Лавринович говорит:
— Пойми меня как человека. Пулям я не кланялся. В переплетах бывал. Думаю — пронесет. А иначе, брат, нельзя.
Холодные северные ветры замедляют шествие весны. Снова все оледенело, застыло.
Объединенные силы трех бригад — Михновца, Деруги, Гаркуши, снявшись с баз, направляются к железной дороге Брест — Гомель. Идут одной длинной колонной, выслав вперед боевую охрану и боковые дозоры.
Шура Гарнак шагает в колонне рядом с Богдановичем, которому помог перейти к Мазуренке. Их обоих капитан выделил для участия в операции, поручив особое задание — попытаться захватить кого-нибудь из немцев живьем, а если не удастся — взять документы.
Впереди Шуры едет на коне Михновец, командир бригады. У Шуры острый интерес к этому человеку, который заметно выделяется среди партизанских командиров.
Настроение у Шуры подавленное. Отношения с Асей не ладятся. С того осеннего дня, когда он случайно увидел ее в баньке, его властно тянет к ней. Теперь он тем и живет, что ждет коротких мгновений, когда можно на Асю взглянуть, поздороваться. Только один раз весь вечер он пробыл с радисткой. Но главного так и не сказал.
Перед тем, как колонна двинулась из Сосновицы, Шура два раза забегал в хату, над которой возвышаются шестки с натянутой антенной. Аси дома не было.
В последнее время Шура мало бывает на месте, ходит то под Горбыли, то под Батьковичи, получает от связных разведдонесения. Ходит в паре с Топорковым, с Богдановичем, с другими парнями, и почти каждый поход не без происшествий. Он пока что выходит сухим из воды. Очень хотелось бы рассказать Асе о своих приключениях. Тем более что они делают одно дело. Сведения, которые Шура приносит, Ася передает в Москву. Но ему нелегко подступиться к радистке. Ее внимания домогаются разведчики, подрывники. Иной раз Шуре удается настроить себя враждебно к девушке. Он старается ее не замечать, не глядеть на низенькую избенку, где она живет. Но ненадолго. Ася все-таки без разбору на шею не вешается. Шура ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из партизан, зайдя, долго оставался у нее.
В таком беспокойном настроении прошла для Шуры зима. Особенно тяжелым был последний месяц, когда собранные в один кулак партизанские отряды зашевелились, собираясь расходиться по районам... Может статься, что Асю заберут из группы, оставят при штабе соединения, тогда Шура ее никогда не увидит.
Он уже искал спасения. Познакомился с одной девушкой, ходил к ней ночевать. Думал — забудет Асю. Не помогло. Впервые за восемнадцать лет Шура начинает чувствовать, что вступает в сложную полосу жизни. Он все чаще вспоминает отца, мать, их горькую, необычную судьбу. Почему мать не любила отца? Почему отец, узнав, что мать встречается с другим человеком, не мог просто бросить ее, а застрелил?
Отец встает в памяти задумчивым, озабоченным, каким-то как бы даже прибитым. Возил в пассажирском вагоне почту, домой приходил неохотно. Сколько раз заставал Шура отца в станционном буфете, когда он, вернувшись из поездки, часами сидел там, пил пиво или курил. Если б у него не было нагана, он, может, и не застрелил бы мать? Но оружие дается всей почтовой охране.
Шура не обвиняет мать. Она была очень красивой, ласковой. Его, младшего сына, любила до самозабвения. Как бы предчувствовала, что не придется увидеть сына взрослым. Шура и теперь помнит нежные материнские руки. И когда вспоминает, как мать целовала его, нежила, гладила по волосам, в душе появляется щемяще-тревожное чувство. С десяти лет не видит он материнской ласки. Воспитывался с сестрой у деда. Когда он убежал к партизанам, сестру таскали на допросы.
То, что случилось с отцом, настигло теперь Шуру. Может, это в крови? Неужто на Асе клином сошелся свет? Нет, он все-таки выбросит ее из души. Нельзя быть тряпкой. Она к нему не тянется. Пусть найдет лучшего, он будет воевать.
А колонна между тем движется вперед. Небо хмурое, затянутое тучами. Холодный ветер дует в спину и как бы подгоняет. Богданович, Шурин напарник, молча идет рядом. Алексею нездоровится, болит живот. Лицо посинело, отекло. На несоленое мясо Алесь даже глядеть не может. Где взять соли? Может, разживутся в эшелоне, который идут громить?
Колонна избегает селений, выбирая лесные проселочные дороги. Лес еще голый, неуютный. На ветках верболоза висят пушистые сережки. Начинают цвести подснежники, желтеет калужница. Уже и аист прилетел, расхаживает, длинноногий, по болотцам. Вряд ли найдет он лягушек — попрятались от холода.
— Давай закурим, — говорит Шура, обращаясь к Алесю.
Богданович курить не хочет. Губы у него побелели, пересохли. Шурин кисет замечают другие, он идет по рукам. С табаком, бумагой туго. Шуре жалко, что он неразумно обнаружил свой запас. Соседи, не жалея чужого табаку, крутят толстые цигарки, дымят, но становятся ласковее к незнакомым парням.
— Из какого отряда? — спрашивает высокий, узколицый парень с серыми насмешливыми глазами.
На нем длинная немецкая шинель, разбитые вконец ботинки с обмотками, да и по говору можно узнать — человек не здешний.
Не уточняя, Шура говорит, что служит в разведке.
Высокому, однако, хочется знать точно, он расспрашивает дальше, но Шура отвечает неохотно. Наконец тот, что идет рядом с высоким, толкает его в плечо.
— При парашютистах они. В московской группе. Там еще ходит здоровенная такая дубина. Таскает на плечах рацию.
Высокий расспросы прекращает, на Шуру глядит вроде бы с уважением.
— Что с ним? — показывает на Богдановича.
— Живот болит.
— Полечим. Как только будет привал.
Ветер усиливается, дует теперь сбоку. Холодный, колючий, он пронизывает насквозь. С неприветливого неба сыплется снежная крупа. Нелепое зрелище: из земли пробивается зеленая травка, даже цветы расцветают, а тут снег.
Колонна движется. У высокого — фамилия его Лунев, он из бригады Михновца — посинел нос, он поднял короткий воротничок шинели, согнулся, ссутулился, но юмора не утратил.
— Мне мой отец скоро шинель пришлет. Жду с нетерпением. Хорошую шинель, на рыбьем меху. В ней не замерзнешь.
— Какой отец? — Шура улавливает шутливый тон соседа, но от искушения продолжить разговор удержаться не может.
— Он у меня человек добрый. О сыновьях заботится. А вскорости пришлет и ботинки. Воевать так воевать. У меня двенадцать патронов, даром их не выпущу. Двенадцать фашистов лягут — это точно. А может, удастся и двоих одной пулей. Тогда уложу двадцать четыре.
К высокому прислушиваются — справа и слева раздается сиплый смех.
— Перестань, Лунев, — вмешивается Михновец, который слышит его слою. — Допрыгаешься со своим язычком.
— А что я вредное говорю, товарищ командир? Поднимаю настроение бойцов.
Вдоль колонны проехал кто-то из чужих командиров, и разговоры на некоторое время затихают. Дорога тянется меж кустарников. Неожиданно налетела метель, видны сырые заросли кустарников, сухого тростника, в которых по-особенному шумит ветер — тоскливо и протяжно.
Деревень не видно, колонна обходит их умышленно. Отряды идут уже часа четыре, а привала нет. Вообще-то не стоит останавливаться в этих сырых, заболоченных местах. Надо выбиться в лес, где можно укрыться от пронзительного ветра, а там уже думать и об отдыхе.
В колонне все же легче, интереснее идти, чем одному. Время летит незаметно. Нет ответственности за то, что делаешь, куда идешь. В колонне за все отвечает командир.