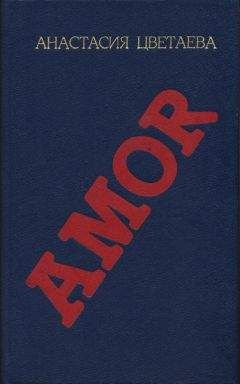— Сомневаюсь, чтобы он так скучал — о вас! — И, с недоброй усмешкой: — Вы, кажется, ждали письма от него? — В голосе была нескрытая издёвка.
— Ваш Евгений Евгеньевич похож на средневекового трубадура, — сказал "новый" (на месте Евгения Евгеньевича), — как это в нем сочетается с изобретателем — для современности, и, по крайней мере…
Бесцеремонно, не дав говорящему докончить фразу, Мориц дал ход своей:
— Трубадур — со слюнявочкой, с няньками!
Ника тихонечко услаждалась: ревнует?..
Но через несколько дней разговор их, температура разговора повышается.
— Я думаю, что только ваша жена смогла так целиком принять все это, войти в ваше зренье вещей… — говорила Ника. — Может быть, потому, что она была девочка, и это все взяла, как закон.
— Да, может быть! — отвечал миролюбиво Мориц. — И потому что по присущей ей гордости она при других — молчала.
Мориц готов опять повернуть руль разговора, но Ника:
— Я хочу видеть Нору, Мориц… дайте мне её лицо, манеры. Она будет в поэме… ^это же нельзя так…
— Рост мой, примерно, чуть ниже. Девичья фигура. В смысле красоты черт — она была менее интересна, чем Женни. Глаза с китайским разрезом, нос — большой, но с горбинкой, орлинообразный, глаза темно, темно–карие, живые, блестящие. Рот — довольно большой. Лицо удлиненное, смугло–розовое, — персик. Она не умела одеваться. Не было нарочитой, женской заботы об одежде. Я люблю наблюдать — искоса‑то, что не хотелось бы, чтобы увидели. Даже по отношению к людям, которых я люблю по–настоящему.
— По отношению к вашей жене, например, — голосом, которого не распознал Мориц, сказала Ника. Она погружала лот. Лот, как она предполагала, дна не достал.
— Видите ли — you see, — и голос его стал до краёв — теплый, — настолько я знал её и настолько, с другой стороны, считал себя не вправе залезать в её душу, что мне не надо было наблюдать за ней. Я принял её как данность, раз навсегда.
Ника знает глубину страдания жены Морица, — в этой его фразе. Лот и тут не достаёт до дна.
Была глубокая ночь. Глава поэмы была закончена. Ника вспоминала рассказ Морица и о том, как Нора встретила первый его поцелуй, даже физическим выражением трепета: "She was trembling like in a frost…" Это звучало сильнее, чем русское: "Она дрожала как на лютом морозе…" Это Нике не только как женщине, но и как писателю было — откровением о Морице. И странным образом через это откровение Мориц стал (стал, становится во всяком случае) братом, а Нора сестрой…
— Вы — странный человек, Мориц, — вздохнула Ника, — трудный, ещё труднее меня… Но я всегда считаю себя виноватой. А вы — вы признаете все свои данности за неизбежность. Вы совсем не боретесь с собой. Я тоже так жила — но в молодости! Потом — перестала.
— Но почему вы считаете, — запальчиво отвечал Мориц, — что ваша моральная мерка приложима ко всем? — Он пожал плечами.
— Не надо, Мориц… — мягко отвела его протест Ника, — Мне обидно за вас! Что вы большое чувство испытали не к какой‑нибудь великой актрисе вроде Асты Нильсен или к какой‑нибудь мировой певице, к чему‑то неповторимому и трагическому, а к маленькой и даже не вполне доброкачественной женщине, которая, любя вас, заодно вас ловила — интриговала — что это все такое? В вашей жизни нет Клеопатры и нет Кармен, нет того, что равно — жизни! (в восприятии данного человека, пусть и ошибочном). В вашей жизни — одно священно: некое подобие Галатеи — это ваша жена. Не иди через вашу жизнь это чувство — я бы только огорчилась, слушая.
Её прерывал Мориц:
— Говорить на эту тему я не считаю нужным. Почему я должен был любить актрису, а не просто женщину? Неубедительно. Но я вспомнил один маленький факт, который, может быть, даст вам что‑то — в вашу писательскую лабораторию. Вы спросили меня, не был ли я влюблён в девочку, будучи ещё мальчиком. Я был свидетелем, в шесть лет, бурных выражений страстей такого мальчика к маленькой девочке, и я возненавидел подобные выражения. У моего троюродного брата в Риге на детском празднике я увидел, как один мальчик в какой‑то бешеной страсти (девочка была хороша как кукла) прокусил ей ухо. "Красная шапочка" заплаканная сидела на руках у матери с бинтом на ухе. И я негодовал, и мне было стыдно за нее: как она могла сидеть тут, при всех, после того, что случилось!
— Да, вот это — ключ к моему герою, Мориц, — сказала Ника, — это я забираю в поэму, спасибо! Это действительно реактив в одну из моих колб. Вся ваша любовная жизнь может стать прожектором, исходящим из этой вспышки вашего нет безыскусственной человеческой слабости. Из этого укушенного уха.
Его раздражал этот тон Ники: что‑то от пифии! Какой‑то треножник в комнате! И эта открытость её вечного "иду на "вы!". Она "разрешила" проблему — как разгрызают орех.
Но он не знал одного: что она это знала. Что сознательно шла на то, чтобы терять как женщина, выигрывая как писатель. Он не знал этого не по недостатку тонкости, а просто потому, что не знал вакхического момента в творческом процессе: той самой вспышки света, от которого вся дальнейшая жизнь Ники — де Сталь — Жорж Санд — Марии Башкирцевой была лишь распылением света. В этом стыке скрестившихся на мгновение двух прожекторов, двух противоположно направленных…
Ника кончала пересчитывать расценку, когда дверь широко распахнулась:
— Договор с Германией! О ненападении…
— Что–о-о…
— Вечно радио выключают! — кричал кто‑то. — Мешает считать!
Один за другим, крича от волнения, входили помпрораба, прораб, конторщики, десятники, Мориц, ещё кто‑то.
— Но это просто феноменально смело! — кричал Мориц, стараясь осилить крик. Его перебивали:
— Кто мог ждать этого? Договор с Германией о ненападении!
— Здорово! — кричал Виктор. — Кто теперь посмеет напасть на нас? Америка?
— Нет, кто мог ожидать такого?
"Они, наверное, правы, — подумала Ника, — а я вдруг испугалась чего‑то".
В поднявшемся шуме — Евгения Евгеньевича не было! Не с кем было перемолвиться словом…
ГЛАВА 18
ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРЕЖЕ
Сегодня утром — отчего? — ей все вспоминалось, как сын её Сережа лет семи, в один жаркий час, в Судаке, в начинавшийся голод, пришел к ней с расширенными, чему‑то ужаснувшимися глазами. "Мама! Как это может быть?" — сказал он, остановись от бега, тяжело дыша. Она прервала его: "Что с тобой?" (и рукой — о лоб). Но он нетерпеливо отмахнулся. "Слушайте! Как это может быть? Б е с к о н е ч н о с т ь… Не было начала — и нет конца! Мама! Вы — понимаете?" Она чувствовала: ему, всем существом его, хотелось, чтобы она сказала: "Да, понимаю, и ты поймешь, потом, когда вырастешь". Его глаза молили об этом. Она никогда не могла лгать ему. Она ответила, что этого никто не может понять, что это… — и хотела прижать к себе и погладить родную головку, но он в каком‑то негодовании уклонился от ласки — и пошел от нее, не побежал, а пошел… Ей и сейчас было больно от этого его движения…
…Но бывали безысходные часы. Сына пришлось из‑за нужды отдать в школу физического воспитания, интернат. Там хорошо (нет, не то слово. Кто мог "хорошо кормить" в то время!) — там кормили. Дома же было нечего есть. На работе выдавали фунтики крупы, несколько пар селедок, спички, иногда — макароны. Хлеба кусок — как образочек. А мальчику надо было расти — и учиться. Разлука и слезы. Она ездила к сыну в редкие дни свиданий с корзиночкой "усиленного питания" (что удавалось купить на Смоленском рынке, а для этого брать на дом переписку, пачки библиотечных карточек, редко попадавшийся перевод). То, как гордец–мальчик повисал у нее на шее, ещё не успев взглянуть на гостинцы, тем опрокидывая её упреки в "отсутствии сердца", — было трудно и теперь помнить… То, как с криком ласточки он бросился — на каникулах, дома, к ней (давно уже, терпеливо, булавками — потому что гвоздиков не было — он приколачивал все отстававшие подошвы вконец изношенных полусапожек), — а она вошла без улыбки, строго, чтоб не расплакаться: "Одевайся! Идём покупать башмаки". (Покупать! Небывалое слово! Он не ослышался?) Этот ласточкин крик Сережи нельзя было вспоминать.
Раз, в гостях, мальчик не выдержал — попросил, чтоб подарили ему крошечную каменную обезьянку. Радостно подарили, но весь путь обратный она стыдила его, довела сына до слез. По пути оказалось, что он — потерял подарок! Новый взрыв материнского негодования: "Ты даже то не умеешь любить, ради чего унизился! Какой же ты растешь человек?!" А через две недели, в утро её просыпанья, в голодный день её рожденья (ей начинался тридцатый год, ему было одиннадцать), у её изголовья сидела припрятанная обезьянка, крошечная, каменная, и его ликованию не было конца! А за год до того, на этом же стуле, лежали кружком — двенадцать половинок яблок, потемневших и чуть кое–где уже подгнивших, от выдаваемых ему — по одному — в день… Берег — волновался — сберег…