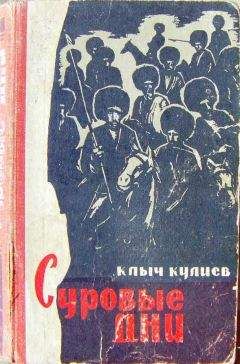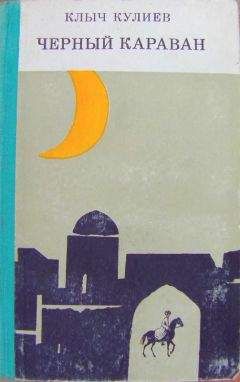— Беда находится между глазом и бровью, сердар-ага, — вставил Перман. — Может быть, Шатырбек уже готовит подкоп под нас. Как бы вдруг не провалиться.
Шаллы-ахун, перехватив взгляд сердара, взмахнул руками:
— О, аллах! Что он говорит! Какую беду призывает на наши головы? Тьфу, тьфу, тьфу!..
— Ахун-ага, аллах, конечно, заступник человека, — не меняя тона, прогудел Перман, — но не зря говорят: на волчьих клыках — и его доля. Кто знает, в какую сторону повернет Шатырбек своих головорезов.
Высоченный широкоплечий старик с коротко подстриженной бородой и пустой левой глазницей сердито уставился на Пермана.
— Пяхей! «В какую сторону повернет…» Скажем, в противоположную сторону. Что тогда? Кого он порубит? Ёмута порубит! А разве ёмут не такой же туркмен, как ты? Разве ёмут не твоей веры?
Адна-сердар ощерил желтые зубы.
— Такой же туркмен, говоришь? Вчера, когда ёмут вырвал у тебя из рук землю и угнал твою скотину, для тебя не было врага, ненавистнее его. А сегодня он стал человеком твоей веры?!
— Мяти-пальван правильно говорит, сердар, — вмешался Махтумкули, заметив, что одноглазый собирается резко возразить сердару. Старый поэт лучше других понимал, что сейчас не время для раздоров между односельчанами. — И ёмут такой же туркмен, как и мы. Но недаром говорят, что когда судьей шайтан, то и родные братья подраться могут. Если где-то оступился человек, надо помочь ему подняться. А мы вместо этого, как волки, грызем друг друга. Гоклен враг ёмуту, ёмут — текинцу, текинец — сарыку… Разве не эта глупая вражда — причина всех наших бед? Разве не от нее наши слабости? Не надо, сердар, ковырять старый саман — много пыли поднимется. Гоклены тоже не раз грабили земли ёмутов и угоняли их скот. Зачем вспоминать старое? Сегодня ёмуты попали в беду — мы останемся в стороне. Завтра беда падет на наш аул — они не придут на помощь. Так народ никогда не обретет спокойствие, сердар.
Адна-сердар слушал поэта, не перебивая, только злая усмешка по временам кривила его толстые губы да лицо постепенно темнело, наливаясь краской гнева. Глядя на Махтумкули, как ястреб на намеченную жертву, он негромко процедил:
— Не мути воду, шахир! Я не пойду к ёмуту! Кто он такой, чтобы я к нему шел? Он считает себя султаном всех туркмен, а я… — Адна-сердар повел вокруг глазами, — а я не равняю его даже вон с той облезлой собакой! Если ты близок ёмуту, — поезжай! Мы тебе палку под ноги не бросим! Во-он дорога к ёмуту!
Махтумкули многозначительно усмехнулся и сказал:
Взойдя и на высокие ступени,
Не отдавай нелепых повелений,
Не отвергай благоразумных мнений
И суть свою в сравнении познай.
Адна-сердар помолчал, скрипнул зубами. Гнев распирал грудь и мутил голову. Голос его налился яростью, когда он сказал:
— Мое слово — сказано! Я не еду! А у кого есть желание, пусть едет. Дорога к ёмутам открыта!..
Он вызывающе повернулся и зашагал прочь. Люди стояли в растерянности. Шаллы-ахун закричал:
— Эй, мусульмане, не омрачайте той! Взывайте к аллаху! Всемогущий аллах друг всего сущего. Да убережет он вас под своей защитой! — Ахун посмотрел вслед сердару и добавил — Идите, занимайтесь своими делами!
Люди неохотно начали расходиться.
Глава вторая
«ЕСЛИ БЫ МЫ ДРУЖНО ЖИТЬ МОГЛИ…»
Старый поэт шел домой, глубоко погруженный в невеселые думы. Жизнь беспросветная, жестокая жизнь давила людей за горло своей косматой лапой, кривилась им в лицо зловонным провалом беззубого рта. Кровь у народа стынет в жилах от страданий и мук, которым нет конца. Куда ни глянешь — всюду избиение, грабеж — грабеж, оправданный законом, грабеж беззаконный…
Проклятый мир! Неужели нет в тебе никого, кто смог бы остановить руку злодея? Совсем немного времени прошло с тех пор, как шахские нукеры собирали подать. Стон и плач оставили они после себя. Зачем же снова собирает ханов правитель Астрабада? Понятно, не на пиршество. Или кони нужны, или новые нукеры. Опять муки, опять тяжкий камень на плечи бедного люда. Неужто снова возвращаются кровавые времена Надир-шаха?..
Жесток был Надир-шах! Несчастный народ не имел при нем ни прав, ни пристанища, ни скота. В огромный зиндан[4] был превращен шахом светлый подлунный мир. И тогда казалось людям, что если стрела смерти поразит насильника-шаха, — мир сразу осветит солнце справедливости, широко растворятся двери щедрости и беда навсегда оставит людей.
Так думали они и молились аллаху, чтобы снизошел он к их слезным просьбам и сократил дни Надир-шаха. И внял им аллах: пришла весть, что собственные нукеры зарезали шаха. Сколько радости принесла эта весть, сколько умерших надежд она воскресила! Словно разом сошли с небес черные тучи. Сотни родов и племен, изнывавших от тяжкого шахского гнета, вздохнули свободно и впервые за много лет почувствовали запах степных цветов в налетевшем ветре, услышали пенье жаворонка и увидели, что дети еще не разучились смеяться.
Да-да, думал поэт, я хорошо помню эти дни. Тогда все жили надеждой, что в мире воцарится порядок и справедливость. О мой аллах, зачем так суров ты к детям своим? Зачем, давая им щепоть, забираешь у них пригоршню? Как обманул ты ожидания людей! Ручейки месяцев текли, сливались в водоемы лет, а справедливость все не наступала, и двери щедрости оставались плотно запертыми. Беки, ханы и сердары, те, что лизали пятки Надир-шаху, возомнили себя львами, каждый надел на голову собственную корону. В Хорасане — Шахрух, в Ширазе — Керим-хан, в Мары — Байрамали-хан, в Дуруне — Искандер-хан, в Астрабаде — Мухаммедхасан-хан. Вместо одной ощеренной пасти появились десятки хищников. И каждый из них мечтал держать на своей ладони весь мир, стать правителем правителей, султаном султанов. Снова — битвы, снова — войны. Кто-то побеждал, кто-то был побежден, но менялось ли что-нибудь для народа? Хоть один из правителей подумал о людях? Им некогда было думать, разорение, смерть и огонь оставляли они за собой…
Кто-то, поздоровавшись, прошел мимо Махтумкули. Поэт рассеянно ответил. Потом, точно споткнувшись, остановился и, глядя вслед односельчанину, долго стоял на дороге, покручивая в тонких чутких пальцах кончик бороды.
Большой пегий пес подошел сбоку и остановился в двух шагах, вопросительно глядя на человека. Махтумкули протянул к нему руку. Пес шевельнул широким влажным носом, дружески дернул куцым хвостом. Поэт печально улыбнулся и, опустив руку, пошел дальше. И снова, как пожелтевшие страницы старого фолианта, с пергаментным шорохом зашелестели перед ним прошлые дни…
«…Разве не сами мы вознесли до небес, а потом посадили на трон Агамамеда-Скопца? И чего мы в конце концов достигли? Вот и теперь кровавый Феттах[5], как стервятник, терзает и Иран, и Туран[6]. Проклятие вашему роду до седьмого колена, черные палачи народа!»
Кибитка Махтумкули стояла в средних рядах аула, рядом с кибиткой Мяти-пальвана. Внешне они ничем не разнились. У обеих деревянные колки давно ослабли, подгнили основания теримов[7], кошмы, покрывающие кибитки, пестрели обильными заплатами.
Махтумкули прошел в конюшню, стоящую рядом с глинобитной мазанкой. Гнедой жеребец, увидев хозяина, поднял голову и радостно фыркнул.
Акгыз, жена поэта, возилась у там дыра.
— Бедная скотина с утра не поенная стоит, — сказала она. — Дай ей воды.
Махтумкули провел рукой по гладкой теплой шее коня, вытащил соломинки, приставшие к гриве. Потом покрыл коня кошмой, накинул недоуздок, взял серп и веревку и повел гнедого к Гургену.
Между аулом и рекой лежал огромный пологий бархан. Еще в давние времена аульчане проложили через него дорогу к реке. Когда-то там, где кончался спуск, был полноводный оросительный канал. Теперь он превратился в сухой овраг с каменистым потрескавшимся дном. Не только люди стареют, подумал поэт, стареет земля, иссякают воды, не стареет только человеческая нужда.
Наступал вечер, и яркий диск солнца, медленно тускнея, приближался к черным вершинам гор Кемерли. Лучи становились все багрянее, придавая холмам и долинам какую-то чарующе тревожную красоту осеннего заката. Багрянец падал на бурлящие воды Гургена, вспыхивал в водоворотах и всплесках, вызывая в памяти недоброе. Старому поэту виделись отблески пожара в арычной струе, вспышки факела на взметнувшемся лезвии сабли, рубиново-черная, живая змейка — человеческая кровь…
Как и всегда в это предвечернее время, на берегу реки было много людей. Одетые в зеленые и красные халаты девушки и женщины с кувшинами в руках; молодые парни, с горячими сердцами, жаждущие чарующих взглядов; старики и старухи, уже похоронившие свои мечты, но обретшие несложную мудрость жизни и вздохи несбывшихся желаний; шумливые ребятишки, еще не видевшие жестокого лика мира, — все собрались у багряных вод Гургена. Одни пришли набрать воды, другие — напоить скотину, а третьим это был удобный предлог для тайной встречи: издавна здесь встречались влюбленные.