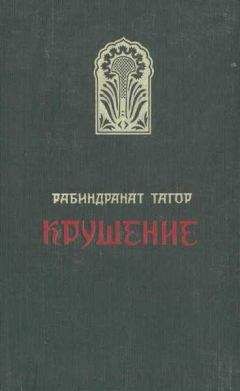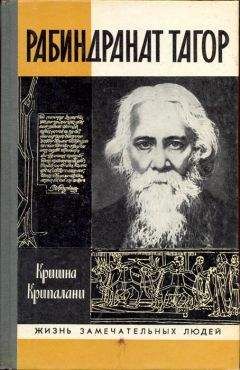— Я хотел, чтобы и вы знали, — сказал в ответ Нолинакха, — что никому, кроме вас, я не рассказывал о моей личной жизни. Высшее учение об искренности и состоит в способности открывать правду. Лишь благодаря вам я смог удовлетворить эту важную потребность высказаться. Поэтому никогда не забывайте о том, что и я нуждался в вас.
Хемнолини не проронила ни слова. Она сидела молча, устремив свой взор на проникающие через окно солнечные лучи, которые падали на пол комнаты. Когда Нолинакха собрался уходить, девушка сказала:
— Дайте нам знать о здоровье вашей матери.
И едва он поднялся с кресла, Хемнолини снова склонилась перед ним в глубоком поклоне.
Последнее время Окхоя не было видно в доме Онноды-бабу. Но в тот день, когда Нолинакха уехал в Бенарес, он снова появился с Джогендро за чайным столом. Про себя он решил, что по степени раздражения Хемнолини при виде его, Окхоя, легко будет определить, насколько еще помнит она Ромеша. Сегодня Окхой нашел Хемнолини совершенно спокойной. Увидев его, она ничуть не изменилась в лице.
— Что вас так давно не было видно? — приветливо спросила девушка.
— Разве я достоин того, чтобы видеть меня ежедневно? — проговорил Окхой.
— Если бы недостойные лишены были права ходить в гости, то многим из нас пришлось бы обречь себя на полное одиночество, — заметила Хемнолини.
— Окхой думал одной скромностью завоевать награду, — проговорил Джогендро, — а Хем превзошла его и показала, что скромность присуща всем людям вообще. Я тоже хочу кое-что сказать об этом. С такими, как мы, обыкновенными людьми, можно видеться ежедневно, но с людьми необыкновенными лучше встречаться изредка, в большой дозе трудно их принимать. Поэтому-то они и скитаются по лесам, горам и пещерам, а если бы своим постоянным местом пребывания они избрали человеческое общество, то таким простакам, как мы с Окхоем, пришлось бы бежать в леса и горы.
Хемнолини поняла, в кого целил Джогендро, но ничего не ответила. Она приготовила три чашки чая и поставила их перед отцом, Окхоем и Джогендро.
— А ты разве не будешь пить чай? — спросил ее Джогендро. Хемнолини почувствовала, что сейчас ей придется выслушать грубость, но все-таки со спокойной решимостью ответила:
— Нет, я бросила пить чай.
— Да тут, я вижу, начался настоящий аскетизм! Вероятно, в чайных листьях недостаточно мистической силы, ведь этим обладает лишь миробалан[48]. Что за несчастье! Хем, прекрати все это. Если одной чашкой чая ты нарушишь свое воздержание, ничего не произойдет! В этой семье суровые ограничения надолго не задерживаются, и незачем среди своих раздувать это никчемное дело.
С этими словами Джогендро встал, сам налил еще одну чашку чая и поставил ее перед Хемнолини. Не прикоснувшись к ней, девушка сказала:
— Почему ты пьешь чай, отец, и ничего не ешь?
У Онноды-бабу дрожали руки и голос, когда он ответил:
— Правду сказать, дорогая, за этим столом мне сегодня кусок в горло не идет. Долго я старался молча сносить выходки Джогена. Я знаю, что при моем состоянии здоровья стоит мне начать говорить, и я не могу остановиться, — все выскажу, а потом придется жалеть об этом.
— Не сердись, пожалуйста, отец, — сказала Хемнолини, подойдя к его креслу. — Дада хочет угостить меня чаем, ну и хорошо, меня это ничуть не огорчает. А тебе, отец, надо что-нибудь съесть. Я знаю, ты всегда плохо себя чувствуешь, если пьешь один чай. — И Хемнолини пододвинула отцу блюдо. Оннода-бабу неохотно принялся за еду.
Вернувшись на свое место, Хемнолини собралась уже выпить налитый Джогендро чай, как вдруг Окхой поспешно вскочил:
— Простите, пожалуйста, можно мне взять эту чашку? Я уже выпил свою.
Джогендро подошел к Хемнолини и, взяв у нее чашку, обратился к Онноде-бабу:
— Я нехорошо поступил, прости меня, отец.
Оннода-бабу ничего не ответил, но из глаз его закапали слезы.
Джогендро и Окхой тихо вышли из комнаты. Оннода-бабу, выпив чай, встал и, опираясь на руку Хемнолини, неверными шагами поднялся наверх.
Этой же ночью у Онноды-бабу был приступ сильных болей. Приглашенный доктор, осмотрев его, сказал, что у него не в порядке печень, — болезнь еще не запущена, год или несколько месяцев, проведенные на западе, и хороший климат полностью восстановят его здоровье.
Когда боли утихли и доктор ушел, Оннода-бабу сказал:
— Хем, дорогая, уедем на некоторое время в Бенарес.
Такая же мысль возникла и у Хемнолини. Стоило только уехать Нолинакхе, как девушка почувствовала, что рвение, с которым она раньше выполняла все ритуалы, значительно ослабло. Одно присутствие Нолинакхи, казалось, придавало ей твердость в выполнении ежедневных обрядов. Само лицо Нолинакхи светилось непреклонной верой и невозмутимым спокойствием, и это всегда воодушевляло Хемнолини. В отсутствие же Нолинакхи какая-то вялость сменила ее энтузиазм. Поэтому она теперь с еще большей настойчивостью следовала его указаниям, выполняя их особенно тщательно. Но от этого вместо покоя ее охватывало такое отчаяние, что она не могла сдержать слез. За чайным столом она старалась быть гостеприимной, но на сердце ее лежала какая-то тяжесть. Снова с удвоенной силой овладевали ею мучительные воспоминания о прошлом, и снова ее бесприютная и одинокая душа готова была заметаться с мучительными стонами. Поэтому, когда Оннода-бабу предложил поехать в Бенарес, она поспешила ответить:
— Это было бы очень хорошо, отец.
На следующий день, заметив какие-то приготовления, Джогендро спросил, в чем дело.
— Мы уезжаем на запад, — ответил Оннода.
— Куда именно?
— Сначала попутешествуем, а там поселимся, где понравится.
Сказать Джогендро прямо, что они собираются в Бенарес, он не решился.
— Жаль, что не могу поехать с вами, — заметил Джогендро. — Я послал заявление на место главного учителя и жду ответа.
Ранним утром Ромеш возвратился из Аллахабада в Гаджипур. Путников на дороге попадалось мало. Придорожные деревья замерли, будто окоченев от зимнего холода в своем легком лиственном наряде. Над пригородами, как нахохлившийся спящий лебедь, застыла белоснежная пелена непроницаемого тумана. Все время, пока Ромеш ехал по этой безлюдной дороге, плотно завернувшись в теплое пальто, сердце его учащенно билось.
Остановив экипаж около бунгало, он соскочил на землю. Он думал, что Комола слышала шум подъехавшего экипажа и, наверно, уже вышла на веранду. В Аллахабаде Ромеш купил дорогое ожерелье, которое хотел сам надеть на шею Комоле, и сейчас вынул футляр из глубокого кармана своего пальто.
Подойдя к самому дому, он увидел, что Бишон, безмятежно спит на террасе, а двери дома заперты. На лице Ромеша отразилось разочарование.
— Бишон! — позвал он довольно громко, в надежде, что разбудит кое-кого и внутри дома. Ромеша задело, что ему приходилось ждать пробуждения так долго, ведь сам он почти всю ночь не мог заснуть.
Ни от второго, ни от третьего оклика Бишон не проснулся, так что в конце концов его пришлось растолкать.
— Госпожа дома? — спросил Ромеш бессмысленно глядящего на него сторожа.
Сначала Бишон словно не понимал, что ему говорят, а затем вдруг очнулся.
— Да, да, она в доме, — сказал он, засыпая.
От толчка Ромеша дверь распахнулась. Он вошел, обыскал все комнаты — нигде никого не было!
— Комола! — громко позвал он. Никакого ответа. Он осмотрел весь сад, дошел до дерева ним, побывал в кухне, в комнатах слуг и в конюшне, но Комолы нигде не нашел.
Тем временем взошло солнце, загалдели вороны; неся кувшины на голове, показались группы девушек, они спешили за водой к каменному бассейну около бунгало. С противоположной стороны дороги доносилось разноголосое пение женщин, растирающих зерно во дворах своих хижин.
Ромеш вернулся в бунгало и увидел, что Бишон по-прежнему спит глубоким сном. Тогда он наклонился и принялся трясти его изо всех сил. Тут только он почувствовал, что от слуги пахнет пальмовым вином.
От непрестанных яростных толчков Бишон, наконец, кое-как пришел в себя и с трудом поднялся.
— Где госпожа? — повторил свой вопрос Ромеш.
— А разве она не дома? — пробормотал Бишон.
— Про какой дом ты говоришь?
— Но вчера-то она сюда пришла.
— А потом куда-нибудь уходила?
Разинув рот, Бишон продолжал бессмысленно смотреть на Ромеша.
В это время явился Умеш в новом дхоти, с покрасневшими глазами, размахивая рубашкой. Ромеш обратился к нему:
— Где мать, Умеш?
— Она здесь со вчерашнего вечера, — был ответ.
— А ты где был?
— Вчера вечером она отослала меня в дом Сидху-бабу, на праздник.
В это время извозчик напомнил Ромешу, что он еще не расплатился.
Тогда на этом же экипаже Ромеш тотчас отправился в дом дяди. Войдя, он заметил, что в доме царит страшный переполох. Ромеш подумал, не заболела ли Комола. Но затем узнал, что вчера, вскоре после сумерек, Уми неожиданно стала громко плакать, личико ее посинело, ручки и ножки похолодели, и это всех страшно перепугало. Дом был поднят на ноги, — всю ночь никто не ложился спать.