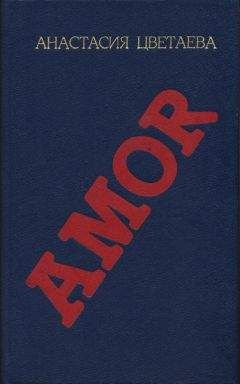Кого увели? Не обеих ли? Спешка этапа глотала всех. Уже на перроне. Поезд. Гудки, это — Казанский вокзал? Сон?
Везут. Куда? Сажают в поезд. Четырнадцать женщин помещают в одно отделение вагона, странного. Двойной коридор. Проходит мимо пустого — купе? Это — купе? В два этажа — нары по семь — внизу, наверху. Пока те влезают с мешками своими (нормального багажа нет), Ника стоит у решетки, перегораживающий во всю длину — коридор, за ним окно и здание перрона — и говорит себе, — не словами, всею собой: ни одной слезы! Там — трясло? Когда мать и дочь! И — прошло? Если то — прошло, значит, и это пройдет. Никаких чувств. Понимаешь?.. Просто поезд отойдет от Москвы. Куда-то, не все ли равно? Из Москвы. Поезд шел? Нет. До утра. Очень холодно. Ложились тесней. Жевали соленую рыбу. Ника не могла, отдала. Ела хлеб. Чаю в ту ночь не дали. Спали вповалку. А когда рассвело — с того конца поезда вошли с конвоем мужчины и заняли по четырнадцать все "купе". Кто‑то сказал: Столыпинский вагон (Столыпин? Премьер–министр. Убили в 1911 году. И она вспоминала из газет про повешение убийцы: "Тело Богрова висело в продолжение 15 минут". Ей было шестнадцать лет.) Тоже трясло. И — прошло? Она лежала у стенки, наверху. Вспоминала, как в камере осужденных показала встретившейся там подруге, Надежде Мещерской, все четыре головки хлебные: одна голова спящего, напоминавшая умершего друга. Другая — приснившееся лицо, большеглазое; букли. Портрет Павла Первого? Третье — подруга узнала его: Зубакин, Борис Михайлович… А четвертая — голова её сына, чуть поднятая, лицо — юное, ободряющее… Как запомнился в час прощания… Где же они теперь? Надзирательница не выбросила! Сберегла! У кого на комоде?
Жевать научилась — долго; слюна с хлебом, высохнув — камень…
Позже, на ДВК[2], увидав глину — загорелась желанием лепить! Глины много… После работы вылепила мужское лицо, с усами, на кого‑то похожее… На кого же? Все больше. И вдруг — понял а… Смяла и бросила. И больше не стала… Никогда!
В тюрьме — писались, слагались — в пространство, не на бумагу, прямо в память написанные стихи. Ника помнила их и, наверное, никогда не позабудет.
…Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать…
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.
Я мухою любуюсь на стекле.
Легчайших крыльев тонкая слюда
На нераспахнутом блестит окне,
В окно стремясь, в окно, летя, туда,
Где осени невиданной руно.
С лазурью неба празднует союз,
В нераскрывающееся окно,
Куда я телом слабым горько рвусь.
Я рвусь ещё туда, где Бонивар[3], —
В темницу, короновану тобой,
О одиночество! Бесценный дар!
Молю о нем, — отказано судьбой.
Да, это Дантов ад. Тела, тела…
Поют и ссорятся, едят и пьют.
Какому испытанью предала
Меня судьба! Года, года пройдут
До дня, когда увижу дорогих
Моей душе. Их лица, имена
Не тщись сказать, мой слабосильный стих,
Какие наступили времена!
Рахили плач по всей родной земле,
Дорожный эпос, неизвестный путь,
Мороз и голод, вши — и на коне
Чума и тиф догонят где‑нибудь…
— О Боже! Помоги принять не так
Свою судьбу! Не как змея из‑под копыта!
Ведь это Книга Царств торжественно раскрыта,
А к солнцу нет пути, как через мрак!
…Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать…
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.
Жизнь в тюрьме… Все живо в Нике — лица конвоиров и тех, кто её допрашивал…
Один следователь (нос с дворянской горбинкой, читал Герцена), другой — менее грамотен, ошибки поправляла ему в протоколе. Какой‑то её ответ вынудил у него восклицание: "Стерва!" "После таких слов прекращаю отвечать на вопросы", — ответила она.
Видно, её собеседник по природе агрессивен не был. Он встал, сказал: "Идёмте" — и они пошли. В блоке, куда он её запер, — плоский шкапчик, узкий настолько, что сесть в нем было нельзя. Ника пристроилась в положении между стоянием и "на корточках", но усталость была так велика (ведь следователи менялись, отсидев им положенное, она же была бессменно и отвечала на вопросы две смены — и уже началась третья — часов шестнадцать, дожно быть). В этой странной позе Ника мгновенно уснула, остро отдыхая, успела спросить — Сон? Вечность? — спросить о том — верно ли она отвечает. Сон поглотил её, и — в ответ, в условной мгновенности в воздухе бокса и сна проявилось крупно золотистое число 17. Хорошее число, по каббале ею любимое.
И тотчас же щелкнул запор и голос сказал: "Идите!"
Она не проспала, должно быть, и пяти минут, но шла, освеженная. Они вошли в кабинет. Не садясь, следователь спросил:
— Будете отвечать?
— Нет, — сказала Ника так же быстро. — Вы ж употребляете такие выражения.
— Идёмте! — как‑то сразу устав, сказал младший следователь — и они пошли.
Во втором боксе было тоже тесно, и Ника сразу уснула, радуясь отдыху. Она ничего не спросила, и никакое число не явилось. Минут десять проспала. Вскоре следователь открыл бокс, спросил:
— Что вам от меня нужно?
— Мне от вас? — удивилась Ника тоном Алисы из Льюиса Кэррола. — Я бы хотела понять, что вал"от меня нужно…
— Чтобы я извинился, что ли? — озадаченно спросил он.
— Вы напишите в протоколе, после какого слова я отказалась отвечать.
Ответ был вполне неожидан:
— Что я, дурак, что ли?
Умиленная таким ответом, Ника села на стул. Сел и он — и их "собеседование" продолжилось.
В тот же вечер?.. Нет, позже, в камере сидя, она — в воздух — написала стихотворение. Назвала —
СЮИТА ТЮРЕМНАЯ
Убоги милости тюрьмы!
Искусственного чая кружка, —
И как же сахар любим мы,
И черный хлеб с горбушкой!
В обед — какой‑то будет суп,
На ужин — пшенная ли каша?
Или горох? Служитель — груб,
И уж полна параша.
Но есть свой пир и у чумы, —
Во двор, прогулка пред обедом,
Пить пенящийся пунш зимы,
Закусывать — беседой.
А в живописи — высоты
Такой лишь достигает — Детство, —
Воздушны замки видишь ты?
— Сырой стены наследство!
Друг, ты в них жил, ты в них живёшь,
Молчи об этом лишь соседу —
(Он гигиене учит вошь,
Над ней творя победу.)
— Да полно! Слово ль есть "тюрьма"?
Когда у самого окошка
Сребристых плашек кутерьма
Вознёсшихся над кошкой?
— А кто ваш Мориц по национальности? — спросила Ника.
Наш Мориц? — отвечал не очень доброжелательно Евгений Евгеньевич. — Что‑то весьма смешанное: в нем и польская кровь, и румынская, кажется, но живучесть его, по–моему, вся от цыганских его предков. Он же очень больной человек, но в нем столько эйч–пи[4], сколько в самой мощной турбине.
— Цыганское? Это интересно! Да он и похож, пожалуй… Но что‑то в нем и французское есть, мне показалось.
— Есть! Кажется, какая‑то прапрапрабабка, — рассеянно отвечал Евгений Евгеньевич.
— Мне все говорят, что он весьма и весьма грубоват бывает — на работе, — сказала Ника, — это меня немного тревожит. Во мне тоже польская кровь, — улыбнулась она, — поляки — гордецы известные! Как бы не нашла тут коса на камень… А сердиться на меня — у него, у Морица вашего, будут основания! Я ведь в первый раз включаюсь в техническую работу, мое образование гуманитарное, чертежником в разруху работала, но недолго… А вы?.. Мне сказали, вы — изобретатель?..
— Этим я в свободные часы занимаюсь, — отвечал Евгений Евгеньевич, — продвигаю одно сложное изобретение… А работаю тут по проверке чертежей. Я — конструктор. Что же касается грубости Морица — то он очень бывает груб. Человек больного самолюбия и, я бы сказал, не чрезмерно хорошо воспитан! Это часто встречается у карьеристов…
— Он — карьерист?
— Высшей марки. Но вы все сами увидите. Только — простите меня за смелость дать вам совет.
— Смелость и потому, что я старше вас (Ника рассмеялась).
— Женщине, как вы, конечно, читали у Мопассана, столько лет, сколько ей кажется, — не галантно и весело, а церемонно и учтиво отвечал изобретатель, — и я не имел в виду — возраст. Я понимаю, что вы — не девочка, хотя вы и очень моложавы. Нет, я имел в виду, изучив нашего шефа, — посоветовать вам не давать ему, грубо говоря, спуску или — существует ещё более изящное выражение — не дать ему сесть вам на голову. Он — прекрасный психолог и сразу учтет все! С Жоржем — так зовут нашего старшего сметчика — он учтив. Со мною, хотя мы и разные с Жоржем люди, — тоже.