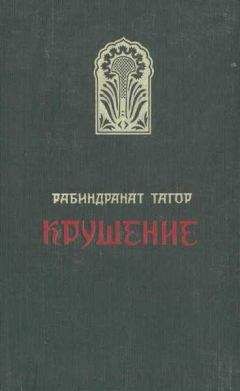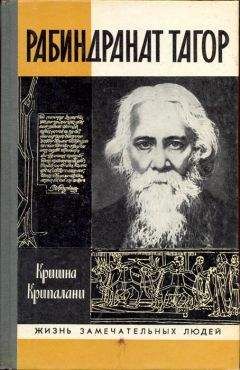Луна уже скрылась, когда острая боль страданий утихла и слезы иссякли. Необычайный вид придавала ночная тьма этой одинокой полоске земли: призрачными казались неясно белеющие пески, а в неверном свете звезд вспыхивала речная гладь, сверкая, как блестящая чешуя гигантской змеи. Ромеш взял в свои руки нежные, похолодевшие от страха пальчики девушки и тихонько привлек ее к себе. Испуганная, она не противилась: больше всего на свете она боялась сейчас остаться одна. В непроницаемом мраке, мирно приютившись на груди Ромеша, она успокоилась. Тут уж было не до стыда — удобно устроившись в его объятиях, девушка заснула.
Когда одна за другой стали гаснуть неяркие предрассветные звезды и на востоке, над голубой гладью реки, заалело небо, стало видно, что на песке, погруженный в глубокий сон, лежит Ромеш, а на груди его, подложив руки под голову, покоится девушка.
Наконец, ласковое утреннее солнце коснулось их век своими лучами, и оба проснулись. С минуту они удивленно оглядывались по сторонам, потом вдруг поняли, что они не дома, вспомнили, что потерпели крушение.
Утром река покрылась белыми парусами рыбачьих лодок. Ромеш подозвал одну из них, нанял с помощью рыбаков большой гребной баркас и, поручив полиции разыскивать пропавших родственников, отправился домой.
Едва лодка Ромеша причалила к деревенской пристани, ему тотчас сообщили, что полиции удалось найти трупы его отца, тещи и нескольких родственников и друзей. Не было никакой надежды на то, что спасся еще кто-нибудь, за исключением нескольких гребцов.
Бабушка Ромеша оставалась дома. Увидев внука с невестой одних, она принялась громко причитать. Поднялся плач и в соседних домах, так как многие из их обитателей тоже приняли участие в этом злосчастном свадебном путешествии.
Не играла музыка, не слышно было обычных радостных возгласов женщин, никто не приветствовал молодую девушку, никто даже не взглянул на нее.
Ромеш решил было сразу после окончания погребальных обрядов уехать с женой куда-нибудь в другое место, но не мог этого сделать, не уладив вопроса об отцовском наследстве. К тому же убитые горем родственницы просили отпустить их в паломничество, — надо было позаботиться и о них.
Среди всех своих дел не забыл он и о правах любви. Невеста его оказалась вовсе не такой уж молоденькой девочкой, как говорили. Деревенские девушки даже подсмеивались, над ней, утверждая, что она уже переросла обычный брачный возраст. Но, несмотря на все это, никакой трактат не мог дать молодому бакалавру совета, как объясниться ей в любви. Довольно долго он считал это совершенно немыслимым и невозможным. Достойно удивления, однако, что, хотя подобные вещи и не имели никакого отношения к опыту, почерпнутому им из книг, все же его высокообразованный ум мало-помалу оказался всецело во власти некоего необъяснимого чувства, которое неудержимо влекло его к девушке, В своем воображении он уже видел ее Лакшми[7] собственного домашнего очага.
В мечтах она представлялась ему то девочкой-невестой, то юной возлюбленной, то кроткой матерью его детей. Как художник или поэт, который, лишь задумав картину или поэму, уже видит свое будущее произведение в прекрасной, совершенной, законченной форме, живет одной этой мыслью, поглощен одним стремлением, — так и Ромеш, в непрестанных думах о своей будущей жене, создал в своем сердце идеально прекрасный образ.
Так прошло почти три месяца. Дела были полностью улажены, родственницы собрались в паломничество, кое-кто из соседок стал, наконец, проявлять некоторое внимание к молоденькой невесте Ромеша. Узы любви между нею и Ромешем становились все крепче.
Теперь часто проводили они вечера под открытым небом, разостлав цыновки на крыше дома. Иногда Ромеш позволял себе, неслышно подойдя сзади, вдруг закрыть ей глаза руками или привлечь ее голову к себе на грудь. Когда она засыпала до наступления сумерек, не успев поужинать, Ромеш, чтобы разбудить, пугал ее чем-нибудь и в ответ получал свою долю шутливой брани.
В один из таких вечеров Ромеш, тронув ее локоны, заметил:
— Сушила, ты сегодня некрасиво причесалась.
— Почему все вы здесь зовете меня Сушилой? — вдруг спросила девушка.
Ромеш удивленно посмотрел на нее. Он не понял, что значит этот вопрос.
— Разве, переменив человеку имя, можно изменить его судьбу? — продолжала она. — Ведь я несчастна с самого детства и останусь такой же несчастной, пока не умру.
При этих словах у Ромеша вдруг перехватило дыхание, и он стал бледен, как мертвец. В уме его внезапно мелькнула страшная догадка.
— Как же так вышло, что ты стала несчастной с самого детства? — спросил он.
— Отец мой умер еще до моего рождения, а когда мне исполнилось всего шесть месяцев, умерла мать. В доме у дяди мне жилось очень плохо. И вдруг я услышала, что откуда-то приехал ты. Я тебе понравилась. И ровно через два дня устроили свадьбу. Ну, а что случилось потом, ты знаешь сам!
Ромеш так и замер, облокотившись на подушку.
В небе ярко светила луна, но ему показалось, что свет ее внезапно померк. У него не хватало духу спрашивать дальше; хотелось, чтобы все, что он услышал сейчас, исчезло, как бред, как сон.
Словно глубокий вздох очнувшегося от обморока человека, прошелестел теплый летний ветерок; звенел в лунном свете голос полуночницы-кукушки; из лодки, привязанной возле пристани, доносилась песня, которую распевали перевозчики.
Не понимая, почему Ромеш молчит, девушка, легонько коснувшись его рукой, спросила:
— Ты спишь?
— Нет, — ответил он и опять надолго замолчал.
Девушка тем временем задремала. Привстав, Ромеш пристально вглядывался в ее лицо. Оно и сейчас не обнаруживало никаких следов той тайны, которую начертал на нем всевышний. И как только могла скрываться столь страшная судьба под такой привлекательной внешностью!
Теперь Ромеш знал, что это совсем не та девушка, на которой он женился. Но открыть, чьей женой она была в действительности, оказалось делом нелегким.
Однажды с тайной надеждой он спросил ее:
— Когда ты впервые увидела меня во время свадьбы, каким я тебе показался?
— Да я тебя и не видела, — ответила девушка. — Я тогда опустила глаза.
— Так ты, наверно, даже имени моего не слышала?
— Свадьба была на следующий день после того, как мне сказали о ней. Откуда же я могла знать твое имя, — ведь тетушка так спешила отделаться от меня!
— Ты ведь училась. Дай-ка я посмотрю, можешь ли ты написать хотя бы свое имя, — сказал Ромеш, подавая ей бумагу и карандаш.
— Ты что же, думаешь, что я ничего больше и не умею? — ответила девушка. — Кстати, мое имя очень легко пишется.
И она крупными буквами вывела: «Шримоти Комола Деби».
— Хорошо. А теперь имя твоего дяди, — попросил Ромеш.
Комола написала: «Шриджукто Тариничорон Чоттопадхайя» и спросила:
— Нигде не ошиблась?
— Нет, — ответил Ромеш. — Напиши-ка еще и название своей деревни.
И она снова вывела: «Дхобапукур».
Так, с большими предосторожностями, Ромеш собрал некоторые сведения о жизни девушки. Но это едва ли упрощало задачу. Он стал раздумывать, как быть дальше. Вполне возможно, что муж ее утонул. Но ведь если даже Ромеш отыщет дом свекра Комолы и отошлет ее туда, весьма сомнительно, примут ли ее там. А отправить девушку обратно, в дом дяди, было бы по отношению к ней слишком жестоко. Что она будет делать, если все это откроется, теперь, после того как она столько времени пробыла в качестве жены в доме другого мужчины? Как посмотрят на нее люди?
А если муж Комолы все-таки остался в живых? Захочет ли, посмеет он принять ее?
Где ее теперь бросишь, там и потонет она, как в бездонном океане.
Только в качестве жены мог Ромеш оставить у себя Комолу, а назвать ее своей женой он не имел права. Но вместе с тем и отправить ее было некуда.
Образ этой девушки, Лакшми домашнего очага, который кистью вдохновенной любви запечатлел он на картине будущего, пришлось стереть окончательно. Оставаться дольше в родной деревне Ромеш не мог, и с мыслью о том, что он найдет какой-нибудь выход, лишь затерявшись в сутолоке Калькутты, он отправился туда вместе с Комолой. Приехав в Калькутту, Ромеш постарался снять квартиру как можно дальше от того места, где жил раньше.
Комоле хотелось как можно скорей увидеть большой город. В первый же день по приезде она уселась у окна и с живейшим интересом принялась следить за непрерывно движущимся людским потоком. Единственной их служанке Калькутта была известна наизусть, и, считая изумление приезжей девушки невероятной глупостью, она то и дело сердито ворчала:
— Ну чего рот разинула? Выкупалась бы лучше — смотри, как уже поздно!