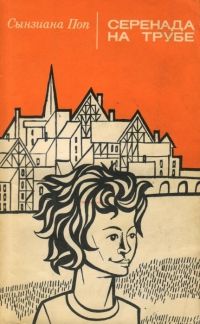— Неважный у тебя аппетит, — сказала тетушка Алис и водрузила на нос очки на шнурке.
— Опять этот суп с лапшой! — вздохнула Клара — Мария-Деспине и умиротворенно откинулась на высокую спинку. Она раскраснелась. От пота волосы за ушами завились круче.
— Что ты делала эти четверть часа? — спросил старик и придвинулся ближе к столу.
— Какие четверть часа? — удивилась кузина.
— Что–что? — переспросила тетушка Алис.
— Ты занималась на рояле меньше положенного.
— Это надо ее спросить, — заявила К. М.Д. и ткнула в меня через стол пальцем. Вернее сказать, она с огромным удовольствием сунула мне его прямо в глаз.
— Мало того, что она целыми днями торчит на кухне, она еще скрипит лестницей.
— Ради бога, что такое случилось? — взмолилась тетушка Алис. — Что с вами?
— Прости. — И старик посмотрел супруге прямо в глаза, если это вообще возможно на расстоянии по крайней мере десяти метров. — Что ты сказала?
— О боже! — вздохнула она и нервно ударила в ладоши.
Но Эржи уже появилась в дверях — запах не обманул меня, — она вошла с кастрюлей паприкаша и, поставив ее на стол, принялась раскладывать. Клара — Мария-Деспине получила филейные части и кусок грудки, старик — крылья и шею, тетушка Алис — остальную часть грудки. Мне она, как обычно, дала остов. Но в нем для меня у Эржи всегда были припрятаны половина печенки и желудок. Есть их надо было осторожно, чтоб никто не заметил, подталкивая вилкой под гарнир. Тем не менее пропажа всегда обнаруживалась. Эржи ругали, а она удивлялась.
— Nem tudom, asszony[8], этот куриц имел только половину печенки. Я не кушал, у меня птица не нравиц.
Что говорить, трансильванский паприкаш — вещь потрясающая. Уж и мясо кончится, а все остается еда. Так что ели мы с аппетитом, обсасывали кости и даже свои пальцы, на которых оставался белый соус, выуживали руками галушки, а старик, тот даже превзошел нас в изобретательности: он окунал в соус большие куски хлеба и с упоением смаковал их. Клара — Мария-Деспине тут же последовала его примеру. Целая хлебная башня была опрокинута в соус, огромные губки, пропитанные жиром, стерли с тарелки малейшие следы воспоминания: быстро, изысканно, бесшумно.
Медлительная и близорукая тетушка Алис тоже шарила по тарелке толстенькими белыми пальцами, отыскивая последние кусочки цыпленка. Только Эржи взирала на нас, ожидая команды. Она стояла неподвижно и была так далека от всего, что происходило за столом: от молчаливых поспешных движений, от пыхтения старика, от звона тарелок и приглушенного шуршания салфеток, зажатых в кулак, — точно двадцать шесть глухонемых танцевали перед окнами. Двадцать шесть человек бьют в ладоши, они безгласны и глухи, и только их глаза воспринимают ритм и движения. И потом, почувствовав ритм, странно трясясь и подпрыгивая, они предаются дикому веселью на празднике мертвецов.
Но поза старика говорила, что он не прочь поглотить еще порцию. Я знала это по тому, как он сидел — не совсем откинувшись в удобном мягком кресле. Он все еще опирался на руки с широко расставленными ладонями, слегка подавшись всем своим расслабленным туловищем вперед, словно готовый к прыжку. Плечи опущены, но голова живо раскачивается туда–сюда, внимательно прицеливаясь. Только после трех блюд, к десерту, глаза у него начинают слипаться, они становятся бессмысленными, но дисциплина заставляет их постоянно быть начеку. И лишь когда красные веки, потеряв подвижность, нависают над зрачком — как у индюков — и глаза начинают поблескивать холодно–стеклянным блеском, тетя Алис разрешает нам на цыпочках выйти. Но после двух блюд голова у старика была еще совсем ясная.
— Так что, говоришь, там случилось? — спросил он снова, закрывая глаза, как это делают близорукие люди, когда им нужно протереть очки. — Я плачу и за те четверть часа, которые ты пробездельничала. Раз ты сделаешь меньше успехов, значит, тебе придется дольше заниматься с учительницей. А плачу я. Я уже говорил.
— Спроси ее, — сказала К. М.Д., снова указав на меня пальцем. — Это она виновата Она нарочно топает. Как слон.
Лестнице скрипит, — оправдывалась я. — Не могу же я летать.
— Что? — Старик настороженно наклонился вперед
Дом старый, вы ведь знаете. Мне было все равно. Если уж говорить им все напрямик, то как раз сейчас. Тети Алис, сытая и счастливая, тихонько напевала, глаза ее, защищенные очками, были мечтательны.
— Что еще? — спросил старик.
— Мышей в нем полно и тараканов тоже. Эржи понапрасну убирает. Они так и кишат на стенах. Целую дорожку проделали, точно муравьи, один за другим ползут. Всю ночь их слышу.
— Что еще?
Мне вдруг захотелось плакать, но я продолжала говорить.
— Это настоящая тюрьма. Не видно ничего за стенами. Думаете, я не знаю, что за ними? Я солнце к себе спрятала в карман.
— Ха–ха! — рассмеялась Клара — Мария-Деспине. — Ты еще и врунья. Ну, покажи. Покажи, где оно у тебя.
— Иди сюда, — сказал старик.
— Когда мы были в Баден — Бадене, Энеас? — мечтательно спросила тетушка Алис.
— Слышишь? Иди сюда! — И он еще больше наклонился вперед.
— Черт знает что, — возмутилась тетушка Алис, — мы давно бы могли умереть.
Клара — Мария-Деспине внимательно меня изучала. Она делала вид, что улыбается, но держала в зубах нож. Я встала и подошла к старику.
— Ну, покажи–ка нам солнце, — сказал он и схватил меня за руку. — Покажи нам его!
Я отвернулась и поглядела в окно.
— Покажи нам его, — повторил он и выкрутил мне руку.
— Ай! — закричала я, и тетушка Алис вдруг прислушалась.
Она водрузила очки на нос и отказалась от своей пищеварительной задумчивости.
— Покажи нам его! — И он, потянув меня вниз, поставил на колени.
Одной рукой он обхватил мою голову, а другой — ударил. Я смотрела на дверь, Эржи застыла на пороге с чашками кофе в руках. Я улыбнулась ей, но старик треснул меня по рту и по носу обратной стороной руки. Я почувствовала, как по губам потекла кровь, тепловатая, соленая, и только закрыла глаза, ожидая ударов. Он бил меня спокойно, размеренно и больно, как раз по ранам. Потом отпустил.
— Немного стоит это твое солнце, — сказал он, и К. М.Д. тоненько засмеялась.
Я поднялась и вернулась на свое место.
— Я знаю, что вы по вечерам обыскиваете мои карманы, а утром роетесь в ранце, — сказала я и приложила бумажную салфетку к губам.
Болели места, по которым он бил, в особенности когда я говорила. Никогда слова не вертелись во мне с большим неистовством, никогда они мне так дорого не стоили. Они пробивали живое мясо, устремлялись тропинками черной крови, венами, лопнувшими веером, и обрушивались беспредельным страданием, килограммами кипящей смолы. Даже потом, когда я произносила первые слова любви. Но я должна была все сказать. Все, что приходило мне тогда в голову, потому что старые унижения зарастают, как кожа, их трудно извлечь на свет божий, и, только когда они выходят наружу сами, по ночам, ты плачешь в темноте, и, если бы можно было исписать ими целые страницы, люди бы обратились в камень и ты разгуливала бы одна–одинешенька среди статуй твоего собственного страдания. И мне было жаль, что я не могла направить против них прежнее долготерпение, подобно безумной, придурковатой старухе, предвещающей смерть.
— Я привыкла даже к жировому мылу «специально для меня» и к жесткому полотенцу. И к побоям. Вы меня ничем не удивите.
— Ах так! — усмехнулся старик. — Ты еще с претензиями. И это у тебя есть. Мать твоя — всего лишь чувствительная шлюха. А ты пойдешь дальше. Ха–ха!
— И про Манану я забыла сказать. Что вы ее морите голодом. И про Эржи — что ее обираете. И это еще не все.
— Ей–богу? — сказал старик и от души расхохотался.
Смеялась и тетушка Алис. Я сидела между ними, и потому меня слышали оба. Они смеялись, а во мне, как маятник, бился плач. А потом меня затошнило. Я встала и выбежала как раз в тот момент, когда их веселье раскрылось зеленым цветком.
Я лежала и ждала, когда придет плач. Он карабкался по мне, как паук. Он уцепился за ноги и подбирался к коленям. Он хватал меня за пальцы. Я ощущала его в горле, в уголках губ, на лице. Серый, мягкий паук, высасывавший из меня силы.
Наконец слезы хлынули на волю, река прорвалась. Благотворный дождь омыл меня, успокоив боль. И только голова, изуродованная и мокрая, до самых висков смоченная слезами, прерывисто вздрагивала, как птенец, освободившийся от скорлупы.
А потом пришел покой, он простерся до пояса, пришел сон, баюкая мои плечи. Я закрыла глаза и увидела мир, он был вначале зеленый, как будто я смотрела через стеклянную грань. А потом я снова открыла их и увидела ясно и свежо, как после летней бури. В окне напротив стояла девочка и смеялась. Девочка с куклой. Она подняла ее и показала мне, кукла плясала у нее в руках. А девочка смеялась. И я видела только это: ее смеющееся лицо, куклу и руку, двигавшую куклу. И половину острой, как шип, крыши. Оранжево–красной крыши, гудящей черепицами на летнем солнце и затеняющей окно с зелеными рамами. Перед окном старинная вывеска лавки бренчала на ветру. Огромная жестяная шляпа. Жестяной цилиндр, малость сплющенный и покрывшийся ржавчиной. Девочка смеялась, передвигая куклу, шляпа раскачивалась — вот и все, что я могла видеть из окна своей мансарды, и еще слышала издалека доносившиеся приглушенные смешки–колечки, местами соединенные звеньями. И шляпа, ударяясь о стену, издавала вздох. Они раскачивались — и шляпа, и смех, стеклянные кольца скользили по цепи, и крыша качалась, балансируя краями, меняя цвет и тая на солнце, как земляничное мороженое.