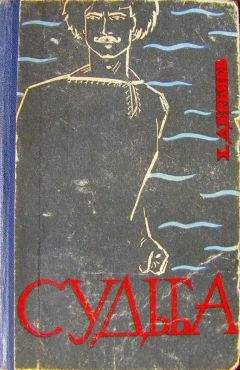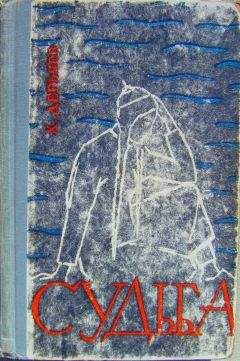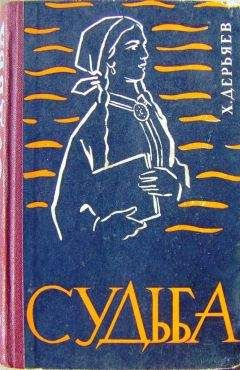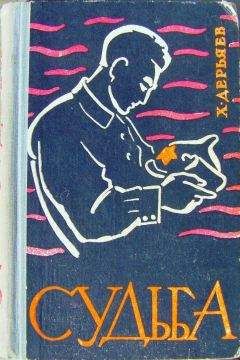Дайханин, мимо которого он проходил, поинтересовался, куда он направился, и посоветовал:
— Возьми моего ишака. И два кувшина больших дам, тебе. Один — мне привезёшь, второй — себе. Чурек ведь печь будешь? Тоже вода понадобится.
Худайберды-ага последовал доброму совету. А вернувшись, сел прямо на землю, рядом с кувшином, и долго сидел, ни о чём не думая. В животе всё время бурчало и ухало, к горлу подкатывала томительная сухая тошнота, сердце билось редкими неровными толчками, словно раздумывая, стукнуть следующий раз или уже хватит, пора совсем остановиться.
Вечерело, когда он, охая и поминутно хватаясь за живот, замесил тесто, кое-как вырыл в твёрдой земле печь, испёк чурек. Есть не хотелось, но он ел, давясь и кашляя, не замечая, что по щекам текут слёзы, и только удивлялся, что хлеб получился солёным. Выпив почти пол кувшина воды, он вытерся подолом измазанной в тесте рубахи и, постанывая, лёг.
Всю ночь его корёжило и выворачивало наизнанку.
К утру он ослабел настолько, что не смог поднять кувшин, уронил его и долго, безразлично смотрел, как вытекает и впитывается в землю драгоценная влага. На какой-то миг вспомнилось, как он заблудился в песках и погибал от жажды, но тотчас его сознание померкло. Оно вернулось только к полудню. Худайберды-ага с трудом разлепил невидящие глаза, его землисто-серые губы шевельнулись в слабой улыбке.
— Ты вернулся, Меле-джан?.. Очень хорошо, что ты вернулся, сынок…
Кто знает, произнесли эти слова губы Худайберды-ага или прошелестел их ветер, метнувший пригоршню жёлтой пыли в лицо старика. Дайхане на соседних участках вспомнили о нём на следующий день.
Тачсолтан сидела у приотворённой двери своей кибитки и в полное своё удовольствие пила чай.
Время казалось, шло мимо этой женщины. Может быть, природная худощавость и отсутствие детей, а может быть, неуёмная, всепожирающая жажда мужских объятий делали её значительно моложе своих сорока лет. В её глазах постоянно тлел безумный уголёк сластолюбия, ноздри красивого носа страстно раздувались и дрожали, жадные, чувственные губы пунцовели осенними розами.
Она постоянно одевалась, как на праздник, и её воркующий, призывный смех напоминал нетерпеливое ржание молодой кобылицы, выпущенной на весенние выпасы. Многие молодые парни, живущие в ряду Бекмурад-бая и в ряду Вели-бая, и ещё другие, неизвестно где живущие, вздрагивали, заслышав её смех, и напрягались, готовые мгновенно ответить на призыв. Это были те, кто испытал уже тяжёлую, не дающую облегчении любовную ярость Тачсолтан, кто носил на своих плечах, на груди, на шее следы её острых зубов. Казалось бы, эти люди должны были избегать её, но она влекла к себе чем-то утончённо порочным и гибельным, засасывала, как болото, как раскисший от дождя шор. Они ждали её призыва, а она по какой-то болезненной прихоти никогда не принимала дважды одного и того же любовника. Исключением был когда-то Аманмурад, муж, но это было давно, когда ему ещё нравилась огневая ненасытность жены, а Тачсолтан ещё хранила ему верность. Потом Аманмурад устал, начал избегать встреч с женой, а она, перебесившись и чуть не потеряв рассудок, научилась обходиться без мужа.
Тачсолтан пила чай и прислушивалась к равномерному стуку молотка, доносившемуся из мазанки батрака Торлы. Едва стук прекращался, женщина настораживалась, замирала, ожидая неизвестно чего. Молоток стучал снова, и она успокаивалась, дыхание её становилось ровным.
Высокий и плечистый, батрак Торлы, играючи поднимавший одной рукой трёхпудового барана, с некоторого времени всё чаще овладевал нечистыми помыслами Тачсолтан. Она обходила его своим вниманием до тех пор, пока не поняла, что справиться с желанием бессильна.
Тачсолтан встала, руками крепко стиснула свои ещё но совсем увядшие груди и сладко, с хрустом и стоном потянулась. Окажись парень в эту минуту рядом — она не подумала бы о последствиях.
По улице носился обычный для этого года ветер, топорща распластанные крылья пыли. И Тачсолтан подумала, что в такую бурю можно даже днём на открытом месте заниматься любовью — никто не разглядит.
Мимо двери, прикрывая от ветра лицо пуренджиком, пробежала Курбанджемал — жена Торлы.
— Курбанджемал, эй, Курбанджемал! — окликнула её Тачсолтан. — Зайди-ка сюда!
Молодая женщина подошла, отдуваясь и отплёвываясь от пыли.
— Хазан её забери, бурю эту! Прямо с ног валит.
— Иногда это неплохо! — усмехнулась Тачсолтан.
— Что неплохо?
— Это я так… Куда собралась в такую пыль?
— По делам. В аул бегу.
— Что за такие спешные дела у тебя объявились?
— Ай, спешные — не спешные, а всё дела. Детишек хочу немного побаловать, надо корок от гранатов достать.
— Ну иди, балуй, — согласилась Тачсолтан, — только смотри, чтобы ветер не занёс тебя в другой аул.
— Там Торлы нет! — засмеялась Курбанджемал. — Там мне делать нечего.
Тачсолтан проводила женщину бесстыдно-озорным взглядом, подошла к зеркалу, вделанному в дверцу шкафа, и стала рассматривать себя. Подняла брови, сощурила глаза, подкрутила сзади локоны. Потом накинула пуренджик и направилась к мазанке Торлы.
Батрак сидел возле наковальни и нарубал зубья у серпов. Он покосился на гостью, но так как она ничего не говорила, смолчал, делая вид, что всецело занят работой.
Потягиваясь, словно кошка, играющая с полуживой мышью, Тачсолтан, присела рядом и, как бы невзначай наклонившись, коснулась подкрученным локоном щеки парня. Он невольно дёрнул головой. Женщина тихо засмеялась:
— Ах, какой ловкий йигит! Один раз ударит — сразу зуб получается. У тебя всё так ладно выходит?
— А что ты хотела бы мне заказать? — спросил Торлы и досадливо крякнул. — Ха, сглазила — сломал зуб!
Он отбросил испорченный серп в сторону и стал постукивать молотком по пустой наковальне. Тачсолтан, лаская его взглядом, задушевно сказала:
— Мои глаза тебя не могут сглазить! Они — для других недобрые, а для тебя…
Торлы знал, что из себя представляет старшая жена бая Аманмурада, и догадывался, зачем она пожаловала. Где-то в глубине души он был бы не прочь удостовериться, насколько справедливо то, что он слышал о Тачсолтан краем уха, но удерживала непонятная робость, нечто похожее на брезгливость.
— Дай-ка мне эту железку! — Тачсолтан потянула у него из рук зубило. — Острая штука! Почему она не тупится, ведь ты ею железо рубишь? Возьми назад.
Торлы взял, но Тачсолтан не отпустила зубило.
— А ну, отними, если сил хватит!
— Сил-то хватит! — пробормотал Торлы, поглядывая на дверь и незаметно для себя продвигаясь поближе к женщине. — А только…
— Ну, говори, говори! — поощряла она. — Что «только»?
Торлы рывком опрокинул её себе на руку и потянулся губами к дразнящему рту. Его лицо обдало жаром, как если бы он наклонился над кипящим котлом, к губам больно прижались острые зубы — и укусили.
Тачсолтан легко, как ящерица, вывернулась из рук парня, засмеялась и встала.
— А ты храбрый, йигит! Темноты не боишься?
— Ничего не боюсь! — сказал Торлы, несколько смущённый своей несдержанностью, опять берясь за молоток.
— Придёшь?
— Куда? — не понял он.
— Ко мне!
— Приду, если позовёшь!
— Сегодня после полуночи, как только первый петух прокричит, ладно? Со стороны агила приходи, чтобы… жена твоя не приревновала.
— А зачем я к тебе так поздно приду?
— Не знаешь?
— Нет.
— Ну, когда придёшь, тогда всё узнаешь! Дай-ка мне своё сито на всякий случай, чтобы раньше времени люди лишнего не подумали.
До полуночи было ещё далеко, но, снедаемая нетерпением, Тачсолтан сразу же по возвращении стала готовиться к приёму гостя. В первую очередь его следовало накормить, чтобы он был сильным и неутомимым. Тачсолтан положила в двухлитровую кастрюлю топлёное сало и поставила её на огонь. Когда сало стало жидким, она налила сверху до самых краёв арбузной патоки, всё тщательно перемешала. Получилось «пёстрое сало» — очень вкусная и очень сытная еда.
Тачсолтан поставила её в шкаф. Вскоре рядом с салом появилось килограмма два коурмы и лепёшка мягкого золотистого чурека. Всего этого должно было хватить вполне на целую ночь — раньше утра Тачсолтан не собиралась отпускать своего гостя.
Покончив с приготовлением еды, она села на свою пружинную кровать и попрыгала на ней. Гладкое шёлковое одеяло приятно холодило руки, Тачсолтан прилегла на него лицом. Вспомнив что-то, вскочила, порылась в сундуке и вытащила рубашку и кальсоны Аманмурада. «Как только Торлы придёт, я заставлю его надеть это, — решила она. — А когда будет уходить, снимет».
За приготовлениями незаметно наступила ночь. Улеглись на покой люди, угомонились собаки. И только тоскливый утробный рёв ишаков время от времени вплетался в монотонный свист ветра. Петухи не пели, Торлы не шёл.