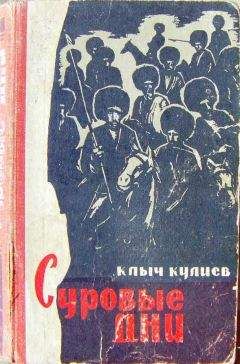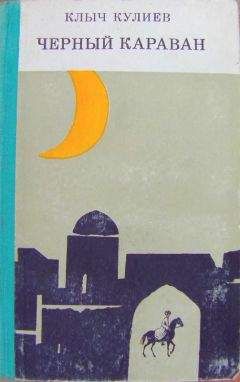— Я задержал народ, господин темник.
Абдулмеджит-хан притворно удивился.
— Ай, баба! Как это вы задержали? Да посмотрите — кругом пустые кибитки! Где их хозяева, если вы их задержали? Половина населения Чагыллы перешла! Почему же вы их не отговорили?.. Ради вас мы на три дня задержали войско в дороге. На целых три дня! А вы даже на вызов хакима не соизволили явиться!
— Не мог, господин темник… Приехал бы, если б хоть на ногах мог стоять… Нездоровилось мне.
— А почему другого человека не послали?
— Можно было, да посланец ваш сказал, что обязательно только сам должен поехать, а я не имел сил…
Гнев хана нарастал. В его душе все клокотало от злости. Ему хотелось многое сказать ахуну, еще больше хотелось поручить дел. И он решил как следует припугнуть его, а затем уже продиктовать свою волю. Поэтому он еще жестче сказал:
— Вы не цените наше уважение, ахун! Думаете, что государство боится вас? Хотите, я всех вас сегодня же выселю отсюда? Ай, баба!.. Если человек не дурак, он не будет ссориться с государством. Ну, допустим, убежали вы. Куда убежали? За Атрек? Пушки и там вас достанут. Или в Хиву побежите, в Бухару? Там вас тоже не встретят с распростертыми объятиями, будьте спокойны! Мы уже переговорили и с Хивой и с Бухарой. Не питайте на них ни малейшей надежды. Или вы надеетесь на Шукри-эффенди, а?
Хан пристально посмотрел на собеседника, проверяя, как подействует этот вопрос. И правда, слова о Шукри-эффенди заставили Эмин-ахун сжаться и побледнеть. Он растерянно прикусил кончик бороды, не зная, что ответить. Абдулмеджит-хан, поняв, что нащупал слабое место, продолжал:
— Шукри-эффенди рассказал нам обо всем. И о разговоре с вами тоже!.. Впрочем, мы и без него обо всем знали. Так что не будьте наивным, ахун, нам все известно!
Взяв себя в руки, Эмин-ахун с достоинством сказал:
— Не знаю, господин темник, что вам мог рассказать Шукри-эффенди. Мы тоже имеем глаза и уши и умеем думать. Хоть мы и не мыслители, разумом проникающие сквозь камень, однако умеем добро отличить от зла и близкое от далекого. Какое зло мы видели от Ирана, чтобы искать защиты в Турции?
Ахун смело и прямо смотрел в пылающее лицо Абдулмеджит-хана. Хан, видимо, не ожидал такого решительного ответа. Он посмотрел на собеседника с удивлением и буркнул:
— Очень хорошо, что понимаете это!
Ахун, приободрившись, продолжал в том же тоне:
— Разные люди есть, господин темник, есть понимающие, а есть и непонимающие. Вы говорите, что часть народа бежала. Но не я же надоумил их бежать, правда? Я сам сижу перед вами, и все мои родные, все близкие остались дома, хотя, если бы хотели бежать, то сумели бы сделать это заблаговременно. Я не один раз выходил к людям и убеждал: сидите по домам, от государства убежать нельзя и не надо этого делать. Однако народ как стадо — часто за дурным козлом бежит к пропасти.
Абдулмеджит-хан без улыбки посмотрел на Эмин-ахуна.
— Значит, вас они не слушаются, нам не подчиняются. Что же станем делать? Похлопаем по плечу и скажем: «Молодцы!» Так, что ли?
Эмин-ахун промолчал и, возвращая разговор к первоначальной цели своего прихода, сказал:
— И все же, господин темник, простите Чарыяра. Ради меня простите.
— Ради вас? — нахмурился Абдулмеджит-хан. — Нет, ахун, ради вас мы и так слишком много сделали — на три дня остановили сарбазов. И кроме того… кроме того вы опоздали со своей просьбой. Придите вы пораньше, я, может быть, еще подумал бы. Но сейчас приказ уже отдан, отменять его я не стану. Виновный понесет наказание!
Ахун глубоко вздохнул:
— Ну, смотрите сами… Недовольства будет много.
Бледные губы Абдулмеджит-хана искривились в презрительной гримасе.
— Угрожаете?
— Нет-нет, — торопливо ответил ахун, делая рукой отрицательный жест. — Избави боже! Угроза нищего — мольба его, господин темник. Мы можем только умолять…
— А если вашу мольбу оставят без внимания, вы поднимете бунт, да?
— Боже упаси! Вы меня не так поняли, господин тем-ник! Я просто хотел сказать, что в народе много смутьянов и это будет им наруку…
— Ну и пусть!
Некоторое время Эмин-ахун посидел, беспокойно ерзая. Потом сказал просительно:
— Если разрешите, господин темник, я пойду?
Абдулмеджит-хан не ответил.
Эмин-ахун торопливо обулся, кивнул на прощание и ушел, на этот раз не кряхтя и не задыхаясь, словно беседа с ханом сразу излечила его от болезни. Глядя ему вслед злыми глазами, Абдулмеджит-хан мысленно выругался.
Люди, собравшиеся около шатра Абдулмеджит-хана и не отходившие, несмотря на неоднократные грозные предупреждения часовых, были уверены, что хан снизойдет к просьбе ахуна, помилует Чарыяра-ага. Когда же Эмин-ахун, пробормотав: «Ай, люди, мои слова не возымели никакого действия…» и стуча посохом, быстро прошел мимо, раздались возгласы возмущения:
— Если жаждет крови, пусть и нас убивает!
— Где Чарыяр-ага был, там и мы были!
— Все отвечаем равно!
— Рано или поздно ответите, кровопийцы, за невинную кровь!
Плосконосый юзбаши, вывернувшись откуда-то, махнул плетью:
— Расходись, скоты!.. Кто кровопийцы?.. А ну, осади! Быстро! Быстро!
Из шатра вышел Абдулмеджит-хан, и люди притихли, настороженно провожая глазами его сухую голенастую фигуру. Хан направился к кибитке, с которой были уже сняты кошмы. Решетчатый остов терима напоминал обнаженные ребра какого-то неведомого существа. На самом верху сидел здоровенный сарбаз и прилаживал веревочную петлю. Упираясь пяткой в перекладину, он пробовал прочность узла. Возле кибитки босой, без шапки, в длинной, до колен, белой рубахе стоял со связанными руками Чарыяр-ага. Он уже распрощался с белым светом. Когда ему шепнули, что ахун пошел просить помилования у Абдулмеджит-хана, он только вздохнул и печально прошептал: «У пса из пасти кость не вырвешь!..» Хотелось на прощание обнять домашних, но просить об этом он не стал.
Абдулмеджит-хан оглядел его, хмурясь и покусывая губы. Плосконосый юзбаши застыл в угодливой позе, ожидая приказаний. Стоящая поодаль толпа аульчан, окруженная сарбазами, притихла. Только изредка кто-нибудь вздыхал или сдержанно кашлял. Не слышно было даже голосов детишек. Все понимали трагическую напряженность минуты.
— Чего стоишь, как истукан? — строго сказал Абдулмеджит-хан плосконосому юзбаши. — Ведите его!
Два сарбаза, повинуясь знаку юзбаши, схватили Чарыяра-ага под руки.
— Дай слово сказать! — попросил старик, словно не замечая усилий двух рослых человек, старающихся сдвинуть его с места.
— Говори! — разрешил Абдулмеджит-хан. — Да побыстрее!
Чарыяр-ага обвел глазами притихших людей, посмотрел на костяк оголенной кибитки, на петлю, тихо покачивающуюся в ожидании жертвы, и перевел взгляд на Абдулмеджит-хана. В его глазах хан не увидел ни страха, ни мольбы, — только ненависть и презрение.
— До сих пор вы раздевали народ, как лук, — сказал старик, делая шаг к Абдулмеджит-хану. — Теперь вы снимаете с живого кожу? Прими мое последнее уважение, ага! Тьфу!.. Тьфу!..
Чарыяр-ага плюнул в лицо хана и, с силой выбросив ногу, ударил его в живот. Абдулмеджит-хан согнулся, словно сломался пополам, лицо его посерело. Однако в следующее мгновение он глухо зарычал и рванул из ножен саблю. Сарбазы шарахнулись в стороны, Чарыяр-ага остался один перед обезумевшим от боли и ярости ханом. Сверкающая молния стали с визгом опустилась ему на голову. Мир вспыхнул ослепительным пламенем и погас. Земля отозвалась глухим звуком на падение тяжелого тела.
Глава семнадцатая
ГУРГЕН ОКРАШИВАЕТСЯ КРОВЬЮ
Известие о захвате Абдулмеджит-ханом Куммет-Хауза дошло и до хаджиговшанцев. Говорили, что часть населения Куммет-Хауза ограблена и отправлена в Астрабад, а остальная часть окружена войсками и содержится в исключительной строгости. Впрочем, разговоры об этом шли не только в Хаджи-Говшане, — весть словно текла с водой
Атрека по долинам и горным ущельям и уже добралась до самого Чандыра. Вслед за ней поползли другие слухи:
— Говорят, в Куммет-Хауз приехал сам хаким!
— Рассказывают, что Эмин-ахуна с веревкой на шее отправили в Тегеран!
— Слышали? Говорят, шесть человек повесили за попытку к бегству!
— Я слышал, что сарбазы насилуют женщин и девушек Куммет-Хауза!
— А знаете, что из Астрабада пришло большое войско и готовится’к походу на Хаджи-Говшан? Верный человек говорил…
Тысячи слухов ползли по земле, как черные муравьи во время великого переселения. Они кусали и язвили, заражали ядом тревоги, рождали неуверенность в робких и ярость в мужественных. Народ волновался.
Слухов было много, но ясно было одно: Абдулмеджит-хан долго не задержится в Куммет-Хаузе, это для него проходной пункт, главное — Хаджи-Говшан, осиное гнездо смут и неповиновения. Если он сравняет его с пылью копытами коней подобно Ак-Кала, если сделает из него новое убежище для филинов, — о, тогда изменится поведение и Эмин-ахуна, и Аннаберды-хана, и сердара Аннатувака. Они превратятся в полководцев без войска, в шатровый кол без покрытия. Конечно, Хаджи-Говшан не сдастся без сопротивления, как Куммет-Хауз, но у хана есть ружья и пушки, есть опытные юзбаши и жадные до добычи сарбазы. Главное — ударить решительно и всей силой.