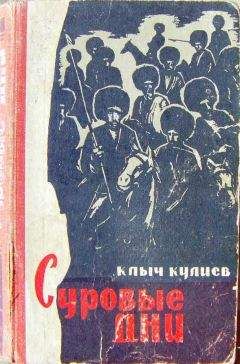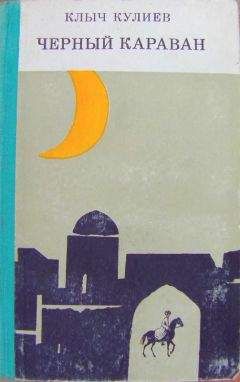Болезнь Махтумкули не прошла, скорее даже усилилась. К слабости тела и ломоте в костях прибавился странный шум в голове. Но не время было хворать, и старый поэт, превозмогая боль, целые дни проводил на ногах.
Больше болезни угнетала мысль о том, что враг подошел почти вплотную к родному селению. Сначала Махтумкули все еще надеялся, что кизылбашей остановят. Он ждал молодого гонца на взмыленном коне и с веселыми глазами, который привезет весть о победе. Но чем дальше, тем более ясным становилось, что такого вестника не будет. И старый поэт с горечью в усталом сердце начал исподволь отправлять хаджиговшанцев в Атрек. Постепенно аул пустел, и вот уже совсем мало кибиток осталось там, где недавно шумел обжитый человеком уголок земли.
Сам Махтумкули не собирался никуда уезжать. Рядом с его кибиткой по-прежнему стояла черная юрта Мяти-пальвана. Остался целым и ряд Адна-сердара. Правда, Илли-хан, захватив семью, удрал в Атрек одним из первых. Забрали родственники и вторую жену сердара. Но Садап осталась. Черной ночной птицей сновала она между четырьмя кибитками Адна-сердара, ожидая прихода Абдулмеджит-хана. Она собиралась встретить его с большими почестями и в специально сооруженном агиле подкармливала несколько молодых барашков.
Солнце клонилось к закату, растекаясь живой человеческой кровью по горизонту. Ливший у Гапланлы дождь прошел стороной, не задев Хаджи-Говшан. Махтумкули сидел в кибитке Мяти-пальвана и размышлял, что старика надо бы побыстрее отправить в Карабалкан — до Атрека ему при его состоянии не добраться. В двух местах пробили старческое тело пули кизылбашей, но могучий организм старого богатыря упорно сопротивлялся смертельному недугу. Мяти-пальван пытался даже казаться веселым, подбадривал унывающих, но уж кто-кто, а Махтумкули знал, каких сил ему стоило это.
Интересуясь всеми новостями, Мяти-пальван ни разу не спросил о сыне. Однако старого поэта трудно было обмануть; он читал невысказанное в тускнеющих глазах друга. И, хотя не разделял его предчувствие близкого конца, все же послал всадника за Джумой. Путь был долог и полон неожиданностей, а всадник отправился недавно. Поэтому Махтумкули очень удивился, услыхав о возвращении Джумы. Он встретил его у порога кибитки и задержал на улице.
— Твой отец нездоров, но ты не печалься, сынок, — сказал он ободряюще, с любовью глядя на взволнованное лицо юноши, уже знавшего, что отец тяжело ранен. — Не расстраивай его и не волнуй, чтобы он скорее поправился. И самое главное, не печалься!
— Что толку в печали, Махтумкули-ага! — вздохнул Джума. — Вон Бегенча привезли… Еле дышит.
Эта новость удивила и порадовала поэта: если дышит после такой дороги, то еще долго будет дышать. Он пропустил Джуму в кибитку и пошел проведать Бегенча.
Того несли на паласе четверо джигитов, не зная, куда деть раненого: тетка, мать и жена Бегенча два дня назад уехали в Атрек. Поэт велел положить его у себя.
Не обращая внимания на людей, постепенно заполнявших кибитку, Махтумкули откинул платок, прикрывающий лицо парня. Люди тихо ахнули, увидев изменившегося до неузнаваемости джигита.
— Бегенч! — негромко позвал поэт. — Очнись, сынок! Открой глаза!
Бегенч хрипло дышал, не приходя в сознание. На глаза Махтумкули навернулись слезы. Он опустил голову и долго сидел, погруженный в раздумье. Потом попросил одного из джигитов, принесших Бегенча:
— Садись, сынок, на коня и привези Сабыр и Джерен в Карабалкан, в дом Язмурада. Сегодня мы туда этого беднягу тоже отправим…
Сквозь толпу протискался парень и шепнул Махтумкули, что прибыл гонец от сердара Аннатувака. Поэт торопливо поднялся: какую весть прислал сердар?
Выслушав ее, Махтумкули поник головой. Говорят: дно терпения — чистое золото. Поэт терпел, и ждал, и надеялся — все оказалось облачком, рассеявшимся от первого дуновения ветра, Силы оказались слишком слабы. Теперь не оставалось ничего иного, как оставить Хаджи-Говшан.
— Передай сердару, — сказал Махтумкули гонцу, — что я согласен с его предложением. Если силы слабы, пусть отступает. Сражение нужно давать только там, где оно выгодно для нас… Я знаю, что Абдулмеджит-хан рвется к Хаджи-Говшану. Пусть идет! Он уже понял силу народа и знает — он далеко не глупый человек, — что чем дальше он идет, тем короче делаются его шаги… И сердару передай, иним, и Перману: пусть из-за Хаджи-Говшана не льют кровь понапрасну.
Проводив гонца, Махтумкули вышел на улицу и остановил двух джигитов.
— Сыновья мои, — сказал он, — сарбазы перешли Чагыллы. Они идут сюда и у нас совсем мало времени. Обойдите село и скажите всем оставшимся, чтобы уходили в Карабалкан. Потом… — Поэт передохнул, словно не решаясь сказать. — Потом один из вас пусть сядет в седло и подожжет все травы и все стога на холмах. Зажгите саман и дрова, оставленные хозяевами. Пусть горит всё, что может гореть! Враг не должен воспользоваться плодами нашего пота!
Гурген горел. Вся южная сторона его была объята пламенем. Снопы искр взвивались вверх и разлетались по ветру. Горела трава, горел труд человеческих рук, горела сама туркменская земля. Махтумкули долго смотрел на свирепое торжество огня, стараясь утихомирить саднящую боль в сердце. Потом подошел к пленным.
Увидев его, Тачбахш-хан закричал:
— Молчите, дураки! Сам поэт Махтумкули идет!
Неизвестно к кому он обращался, так как пленные и без того молчали. Он попытался броситься навстречу поэту, но часовой остановил его. Тогда он издали протянул руки.
— Салам алейкем, поэт!.. Тысячу раз слава аллаху, что довелось еще раз увидеть вас!
Махтумкули ответил на приветствие и попросил часового:
— Сынок, освободи руки хана!
Джигит безмолвно повиновался.
Тачбахш-хан со слезами благодарности на глазах упал к ногам Махтумкули.
— Тысячу лет вам, поэт! Я ваш раб до смерти! Тысячу раз благодарение аллаху! Клянусь аллахом, никто не превзойдет вас в человечности!
— Встаньте, — сказал поэт, поднимая щупленького хана за руки. — Говорят: хорошо, когда заблудившийся находит дорогу.
Тачбахш-хан встал, тыльной стороной ладони провел по глазам и высокомерно обратился к пленным:
— Видели? Что я вам говорил, а? Вот перед вами поэт Махтумкули! Святой пророк по благости не выше его. Благодарите поэта, нечестивцы!
Пленные подняли головы кверху и вразнобой заголосили:
— О аллах!.. Аллах!.. Аллах!..
— Вы спасли нас от узилища, — сказал Тачбахш-хан, обращаясь снова к Махтумкули. — Спасите теперь от голодной смерти! У этих бедняг, которые, клянусь аллахом, ничем не провинились, со вчерашнего дня во рту ни крошки не было. Помогите им, дай вам бог долгой жизни!
Махтумкули задумался: действительно, пленных следовало накормить, но как это сделать? Пятьдесят человек это не пять человек — если каждому дать по одному ломтю хлеба, и то понадобится выпечка не меньше, чем четырех тамдыров. И какой только умник задумал их гнать в Хаджи-Говшан?
— Сынок, — сказал поэт часовому, — я пока постерегу за тебя, а ты сбегай ко мне домой и принеси полмешка муки — пусть эти бедняги сами испекут себе хлеб. А заодно скажи Акгыз-эдже, чтобы и чаю дала.
Конский топот привлек внимание старого поэта. Скакал Перман и еще несколько местных парней. Остановив коня неподалеку от Махтумкули, Перман тяжело спрыгнул на землю и подошел к поэту, здороваясь с ним сердечно и просто, как сын с отцом после долгой разлуки. Покосившись на Тачбахш-хана, стоявшего в стороне с гордо выпяченной грудью, Перман хмыкнул в усы и сказал Махтумкули:
— Посоветоваться надо бы, Махтумкули-ага…
Они отошли в сторонку. Перман сообщил:
— Конники Абдулмеджит-хана разбиты, Махтумкули-ага.
Перман сказал это таким ровным и будничным голосом, что смысл сказанного не сразу дошел до Махтумкули. Старый поэт пытливо посмотрел на джигита — тот явно что-то недоговаривал.
— Да! — повторил Перман с силой. — Мы их разбили! Мы превратили их в дастархан, изодранный собаками! Они бежали с позором!
Лицо поэта просветлело. Поглаживая бороду, он облегченно вздохнул и, с гордостью глядя в горящие глаза Пермана, сказал:
— Хорошо, сынок. Вы сделали большое дело.
Перман передохнул и, понизив голос, продолжал:
— Но… надо быстрее уходить из Хаджи-Говшана, Махтумкули-ага! Пешие сарбазы заняли Чагыллы и, вероятно, сегодня ночью будут здесь…
Поэт повернулся лицом к горящим холмам, полыхающим пламенем пожара. Глаза его светились неуемным внутренним огнем.
— Смотри, сын мой! Смотри во все глаза! Видишь этот огонь? Это огонь народного сердца! Это огонь обездоленной земли! Это огонь страдания и гнева! Он только разгорается!
Да, огонь разгорался — огонь страданий и гнева, буйный огонь святой мести.
Сумеет ли теперь Абдулмеджит-хан погасить этот огонь?